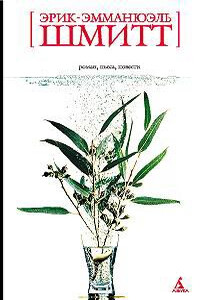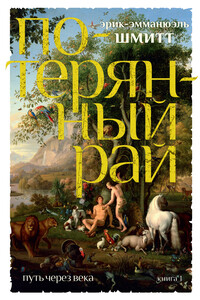– Война объявлена.
На сей раз трое художников были согласны: произошла катастрофа. Может, не для Австрии. Может, не для их современников. Но для них – катастрофа.
Завтра их мобилизуют. Послезавтра пошлют в бой. Останутся они в живых или погибнут – не важно, собой ни один из них больше не располагает. Все усилия предшествующих лет, честная и упорная попытка выучиться искусству, постоянная борьба за расширение своих границ – границ руки, глаза, воображения, их напряженная работа, их споры – все обратилось в прах. Стало ненужным. Излишним. Война все сведет к нулю. Теперь они были лишь мясом. Две руки, две ноги. Этого нации достаточно. Мясо. Пушечное мясо. Годное убивать и быть убитым. Мясо и кости. Ничего больше. Двуногие с оружием. И только. Без души – она сгодится разве что на то, чтобы обмочиться от страха. Личности, которыми они пытались быть, придется сдать на хранение в гардеробную казармы – и в бой, умирать. Все, за что они любили и уважали друг друга, все, чем друг в друге дорожили, стало теперь смешным, граждански одиозным, патриотически неприемлемым. Их будущее больше им не принадлежало – оно стало собственностью нации.
Это было хуже чем разочарование – война стала для них предательством. Предать свой художественный идеал, чтобы стать солдатом. Предать годы учебы, чтобы тащить на себе пулемет. Предать долгую работу по созиданию себя и остаться лишь номером в личном составе армии. И главное, предать этот щедрый вклад в мир – творческую деятельность – ради участия во всеобщей бойне, разрушении, массовом устремлении в пустоту.
– Может, война продлится недолго?
Адольф попытался смягчить всеобщую печаль. Но молчание, которым встретили его слова, показало, что действия они не возымели.
– Эту чушь повторяют всякий раз, начиная бойню.
Они пошли на кухню, и Нойманн открыл бутылку вина. Они пили, чтобы развязались языки.
Ничего не вышло. Все трое испытывали одну и ту же ледяную ярость, их троица впервые перестала ощущать себя единым целым. Они любили делить друг с другом различия, а не сходства. Даже их дружбе пришел конец. Они были теперь всего лишь телами, тремя телами, достаточно здоровыми и крепкими для бойни. Они могли быть товарищами, но больше не друзьями; товарищами, потому что товарищество – это сосуществование в общей ситуации; не друзьями, потому что друзья любят друг друга за то, что в них есть разного, а не общего.
За окнами раздавались крики. Молодые люди собирались на улицах, приветствуя вступление в войну. Они пели. Надсаживали глотки. Лозунги победы и ненависти к врагу переходили из уст в уста, мало-помалу сливаясь в унисон, громогласные, восторженные. Удручающие.
Адольф среагировал первым:
– Пойду-ка я к женщине!
Двое других посмотрели на него с некоторым удивлением. Троица воссоединилась: они разошлись во мнениях.
– Что ты собираешься делать? – переспросил Нойманн.
– Переспать с женщиной. Любой.
– Переспать или утешиться? – спросил Бернштейн.
– Утешиться? В чем? Переспать, потому что это я умею лучше всего, а через несколько дней мне вряд ли представится случай попрактиковаться в этом искусстве.
Они засмеялись.
Нойманн сказал, что выйдет в город, посмотрит, как реагируют люди.
– В конце концов, день объявления войны в Вене – когда еще выпадет такой.
Он пожалел о своих словах, поняв по взглядам друзей, что перед ними замаячил призрак близкой смерти.
– А ты? – спросил он Бернштейна.
– Я? Буду писать, писать и писать, пока меня не оттащат от мольберта.
Бернштейн сказал это с печальной горячностью. Он был самым способным из троих. Адольф и Нойманн ему нисколько не завидовали; напротив, они им восхищались, брали с него пример, радовались, что он так быстро достиг высот. Бернштейн стал их учителем и их ребенком: учителем потому, что от природы умел то, чему другим приходилось учиться; ребенком потому, что был подвержен приступам депрессии и не раз нуждался в их безусловной вере в него, чтобы приняться за работу. Бернштейн уже выставлялся в лучших галереях Вены, именно благодаря ему троица вот уже несколько месяцев жила на широкую ногу.
Он пошел в мастерскую, Адольф и Нойманн смотрели ему вслед.