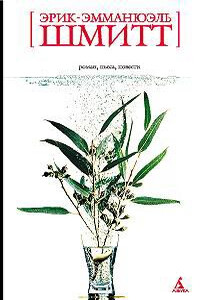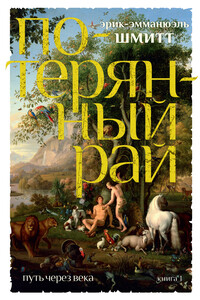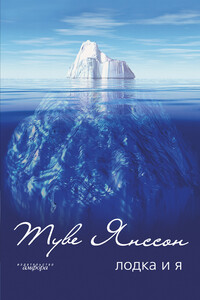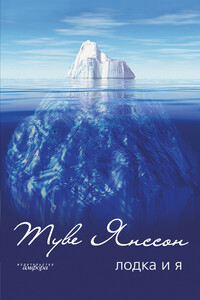Ханиш с трудом выносил своего молчаливого партнера, отвергавшего возможности заработка, предоставляемые суровым климатом. Гитлер был в ступоре. За пару крон убирать снег или доставлять товары – для него это было исключено. Правда, он так отощал, что вряд ли бы справился. Объясняя самому себе свою терпеливость, Ханиш думал, что по доброте душевной несет ответственность за посланного случаем спутника; на самом же деле он пристроил несколько картин Гитлера в лавки к евреям, багетчикам и обойщикам и надеялся, что торговля, невзирая на непогоду и отсутствие туристов, не угаснет окончательно.
В ночь на Рождество 1909 года монахини настояли, чтобы все бедняки, пришедшие поесть и погреться у их котла, отстояли всенощную. Боясь, что им откажут в пище назавтра, нищая братия согласилась и всем скопом отправилась в монастырскую часовню.
Гитлер, притулившись в темном углу, возле вертепа, как будто вернулся в детство. Он видел себя мальчиком из хора, в белом стихаре, с золотыми Святыми Дарами в руках; он упивался песнопениями, вспоминая свои первые музыкальные эмоции; его успокаивал незыблемый ритуал, этот порядок, которого ничто не может ни смутить, ни нарушить – даже скептицизм, – эта церемония, прошедшая в первозданном виде через годы и годы. А он – что делал он все это время? Он посмотрел на младенца Иисуса, голенького на соломе, пышущего здоровьем, ярко-розового. Ему-то, мальцу, не было холодно, Он улыбался, над Ним склонились отец, и мать, и домашние животные, Он мог верить в любовь мира, в гармонию вещей, мог надеяться на будущее. А Гитлер не мог. Он не мог раздеться – так ему было холодно. Не мог улыбаться – кому? Он еще мог протянуть руку, но некому было ее пожать. В его жизни наступила зима, которой не было конца.
Он склонился над нахальным Иисусом, богатым баловнем любви и надежды, поджаривающимся, точно рождественская индюшка, в золотистом свете свечей, услышал, как урчит от голода его собственный живот, и смачно сплюнул.
* * *
Письмо пришло в среду утром.
«Адольф,
я должна тебя покинуть. Поверь, дело не в тебе. Наоборот, я провела с тобой самые счастливые месяцы моей жизни. Я запаслась воспоминаниями, которые будут со мной всегда, даже когда я стану совсем старой дамой. Я уезжаю. Не ищи меня. Я буду жить в другом городе. Под другим именем. Таков мой печальный женский удел. Ты останешься единственным мужчиной, которого я любила.
Прощай и спасибо тебе.
Ариана—Стелла».
Адольфу Г. понадобилось несколько минут, чтобы связать слова и найти в них смысл. Стеллы нет – это было непостижимо. У него в голове не укладывалось, что Стелла могла причинить ему страдание. Он читал и перечитывал письмо, как археолог расшифровывает папирус, не ему адресованный. Он искал ошибку. Надеялся, что вот сейчас явится разгадка и он сможет посмеяться над этой славной шуткой.
Перечитав письмо много раз, он усвоил: Стелла ушла от него окончательно и без объяснений.
Словно проглотив мешок цемента, Адольф тяжело осел и замер. Он был глыбой страдания. Не было ни одного местечка, куда могли бы просочиться гнев, брань, возмущение. Нет. Он окаменел. Жить без Стеллы. Жить, не соединяясь с телом Стеллы. Жить без разделенной любви.
Потом страдание перестало быть глыбой и раскололось на много маленьких мыслей; именно в этот момент, после первого шока, страдание, облегчаясь и рассеиваясь, становится еще мучительней.
Адольф бросался на стены, бился о них головой. Покончить! Покончить скорее! Как все, кто бессилен перед горем, Адольф сразу подумал о смерти.
Альтруизм и эгоизм смешались в нем: он хотел одновременно принести себя в жертву во имя любви и немедленно положить конец своей боли. Он рассек лоб об угол этажерки, и кровь залила лицо. Он задыхался. Сползая по стене, он продолжал наносить себе удары. Лучше любая телесная боль, чем эта боль в душе. Пусть будут синяки, раны, пусть болит плоть, тогда он будет страдать меньше.
Целый час он вымещал на себе собственную ярость, потом снова взял письмо и задумался. Стелла ушла от него, чтобы выйти замуж. Она часто говорила, что счастлива с ним, но, видно, этого счастья ей было недостаточно. Она признавала за ним единственное достоинство: молодость.