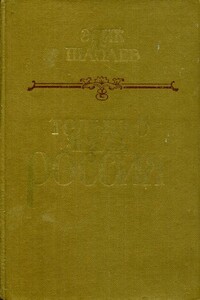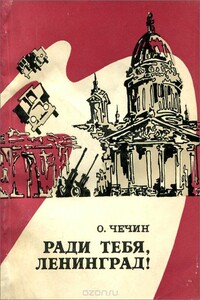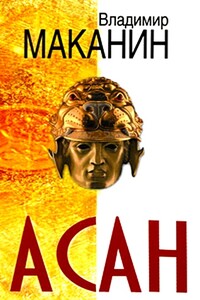Игнат даже покраснел от досады: «Повоевал, называется… Мог бы и не рваться из Москвы!»
— Из каких будешь? — спросил Калмыков.
— Пресненский рабочий, кузнец.
— Во-во, в самый чок! Братва наша, стеклодувы, не перед каждым раскроется… Да, и еще просьба. Ждем пароход из Уфы, с караваном «гостинцев». Обеспечь встречу… — Он уловил замешательство Игната, тихо сказал: — Не кипятись, тишина обманчива. Разъезд за разъездом крадется с юга… Что ж, по-твоему, отдать заводы на поживу казаре? Так, стало быть, обо всем дотолковались. Чуть заминка с подводами — скачи в штаб, к нашим партийным организаторам.
Распахнулась дверь, по ступенькам скатился круглолицый связной, подал Калмыкову вчетверо сложенный листок.
— Телефонограмма из Верхне-Уральска, товарищ командир! — отрапортовал он. — Долгожданная!
— От Блюхера? — просиял Калмыков. — Ну-ка, ну-ка… С колоннами Кашириных выступает под Оренбург, ждет нас. — Он отыскал в толпе сотенного. — Поднимай конницу, едем!
— Слушай, а его… не Василием зовут, Блюхера? — спросил Игнат.
— Василий Константинович, если полностью. А что, знаком?
— Был у меня друг в Москве, ушел на войну три года назад. Не знаю, он ли…
3
Слухи о записи в добровольцы с утра волновали парней окрестных деревень — Ахметки, Павловки, Архангелки. Когда стало известно, что усольские штабные наконец прибыли и сидят в избе-сходне, ребята со всех ног бросились туда. Вместе с другими побежал угловатый, бровастый Кольша Демидов.
— Где записывают? Кто? — запаленно справился он у знакомого павловского подростка.
— А вон сельский комиссар и с ним кто-то еще… Тот пока молчит, а режет под корень дядя Евстигней. Знает, леший, всех наперечет, не хуже табынского попа… — павловский низко опустил голову, чуть не заплакал. — Ну, Митюха тугой на оба уха, а меня за что? Экая важность — недобрал год с четвертью. Я так, сяк — ни в какую… Не суйся и ты — завернет.
— Ну, черта лысого.
Кольша взбил копну соломенных волос, вперевалку зашагал к столу, где под кумачовым лозунгом сидели комиссар Евстигней с добродушно-веселой усмешечкой на губах, два старых солдата и светловолосый, косая сажень в плечах, гость.
— Демидов Николай Филиппович. Знаком с пулеметами трех систем, — сказал Кольша и, опережая коварный вопросец, добавил: — От роду восемнадцать… без четырех месяцев.
— Не пущать! — вскинулся павловский у дверей. — Никаких поблажек, никому.
За столом переглянулись.
— Чего ж не приврал? — поинтересовался комиссар Евстигней. — Павловский, вон, чуть ли не два года себе накинул.
— У него бабка богомольная, вот и ему страх перед боженькой внушила! — выкрикнул тот ломким баском. — Гнать в шею!
— Бабу Акулину не трогайте! — Евстигней даже кулаком пристукнул по столу. — Всех как есть потеряла, кого на войне, кого от холеры, другой бы на ее месте лег и не встал, а она внука подняла на ноги!
Игнат присмотрелся к Кольше:
— И здоров же ты, Демидов. Тебе б еще кувалдой поиграть, вовсе б вошел в силу… Знаком с пулеметом, говоришь? — и повернулся к комиссару: — Твое мненье?
— Ладно, принят, — Евстигней сделал знак секретарю, позвал. — Следующий!
— Пиши: Гареев… — указал пальцем на чернильницу молодой татарин.
— Ты ж нагадакский, с того берега, а это другая волость. У вас будет свой отряд, потерпи.
— Когда будет? — вскипел татарин. — Когда казак набежит и — секим башка?..
— Товарищ Гареев, минутку, — сказал Игнат. — Желающих много?
— Абдулла, Мухамет, Аллаяр, Гараф, Иван… — принялся считать Гареев и сбился. — Много, командир!
— У них там доподлинный интернационал: и татаре, и русские, и чуваши, и башкиры.
— Можете собраться, скажем, завтра поутру?
— Якши! — блеснул зубами татарин.
Список перевалил за две сотни, а люди все подходили. Секретарь взмолился о пощаде: рука отнялась начисто! И было решено прерваться до утра. Евстигней подозвал к себе Кольшу.
— Первый тебе приказ: приюти московского товарища на ночь, а с зарей перевезешь в Нагадак.
Вечерело. От изб и деревьев потянулись длинные тени. Облака шли поднебесьем, игривые, пушистые, подбитые алой каймой, и не верилось, что где-то громыхает канонада, льется кровь.