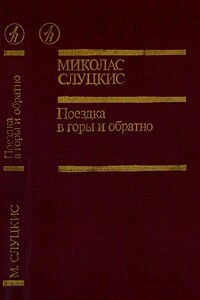Черные бугорки крыш все реже. Голое поле и островерхий холм. Еще чернее, чем поле. Холм?
— Куда это ты меня привела?
Догадывается, даже знает, но ждет: выползет кто-то из темноты и шепнет, где они очутились. Может, Елена? Таится в темноте, не решаясь приблизиться?
Мельница… Как мог забыть?… Почему онемела? В ветреный день издали всегда слышался ее непрекращающийся шорох. Казалось, орудуют тут уже не человек и природа — сверхъестественные силы. Елена любила бегать сюда. Неземной шорох послушать. Голос вечности. От него перехватывало дыхание…
— Боишься, смельчак? — Кармеле тоже неуютно.
Он мрачно молчит, чего-то ожидая.
— Елена не придет. Видела во сне, что ты явишься, но не придет. Мне первенство, я старшая!
От ее глупого смеха становится легче. Статкус позволяет затащить себя в пещеру, которую не могут осветить ломающиеся, быстро гаснущие спички. Стены в пятнах плесени, на балках борода паутины, ступени выломаны… Слышно, как вверху, откуда засыпали зерно, а может, еще выше, под дырявым гонтом крыши, скребутся птицы. Наверно, голуби. У стены охапка соломы, прикрытая клетчатым покрывалом. Видимо, кто-то жил.
— Тахты, как видишь, нет.
Они опускаются на гнилую солому, Кармела утыкается в грудь Статкусу и начинает — он этого совершенно не ждал от нее! — рыдать.
— Наврала я тебе, чтобы не сбежал от испуга. Ведь тогда… не только лошадь…
— Ятулиса? Да? — почему-то вырывается у Статкуса. В его вопросе утверждение. Голос не сомневается в этом ужасе.
— Противный он был, Ятулис. Задира! Но такого молодого — в землю? Перестреляют парни друг друга, одни старики останутся дряхлеть…
Слезы падают на руки Статкусу, жгут огнем, но он благодарен ей за нескрываемую боль. Ах, если было бы светло и она могла увидеть себя в его глазах?
Кармела отряхивается, вытирает со щек слезы и вытаскивает из кармана пиджака бутылку. Зубами выдергивает бумажную пробку.
— Ха, офицер. Может, самогона не пробовал? — и отталкивает его руку. — Давай пить, пока живы! — она отхлебывает.
— Хватит! — Йонас выдирает бутылку из цепких рук Кармелы. Еле удерживается, чтобы не грохнуть о жернов, о расколотый, давно уже забывший запах зерна жернов. В парне вспыхивают противоборствующие желания — крепко врезать по бесстыдным губам и нежно, кончиками пальцев прикоснуться к ним, жарким и влажным. И еще чувствует он, как накатывает ощущение вины, о которой он было запамятовал, опьяненный близостью девушки. Тебя не было рядом, не было… когда она, бедняжка…
— Не лезет? Колбасы пожуй! — истончился до визга смех, и, словно не испытывала только что смертной муки, перед ним наглая, распущенная девка. — Ну, чего тебе хотелось бы, а, герой? А может, не герой? Пай-мальчик? Скажи, мальчик, не стесняйся!
Статкус молчит. И тоже пьянеет. Не от самогона. От дурацкого, визгливого, волнующего смеха, который хочется оборвать, всем телом навалившись на это кривляющееся существо.
— Так-таки ничего не хочешь? Значит, слишком мало принял! — Ее ватная, утратившая четкость движений рука ищет в соломе бутылку.
— Ах, ты так… так? Хочу! К груди твоей прикоснуться хочу!
Кармела настораживается, хотя и продолжает шарить по соломе. Настораживается и он, удивленный, ошеломленный. Его юношескую мечту — прикоснуться к ее груди! — произносит хриплый, похотливый голос? Что с того, что это его собственный голос? Неужели он, Йонялис Статкус, стоявший этим вечером у останков родного крова, посмеет шагнуть вслед за этим предательским, гнусно издевающимся над ним голосом?
— Чего же ждешь? Лапай!
И снова хохот. Кармела сама потрясена собственным вызовом. Дать ей и себе глоток чистого воздуха, мгновение для раздумья!.. Посмеешь протянуть руку и — вспыхнет воздух, обнажит твое побледневшее лицо, хищные лапы, которые в эту минуту принадлежат тебе и не тебе — грубому, истосковавшемуся по женщине самцу.
— А ты не рассердишься? — безнадежно пытается выяснить он. Прикоснуться к ее груди мечтал не как вор — как любящий рыцарь, и не в подозрительной темноте, отдающей гнилым сеном. — Скажи… хоть немножко меня… любишь?
— Много хочешь! — швыряет она, словно пригоршню пыли с жерновов, и ему кажется, что сейчас они провалятся куда-то сквозь усеянный соломенной трухой пол. — Тебя люби… лейтенанта люби… Ятулиса, вечная ему память, люби…