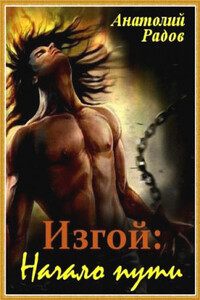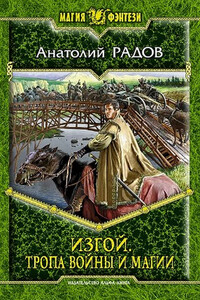Я же для них был немного чужим, городским, только приезжающим отдохнуть. Поэтому иногда они забывали зайти за мною с утра, собравшись на какую-нибудь очередную детскую авантюру, и в такие дни я был один, и со мною происходили всякие странные вещи, вроде того случая с убитыми коровами и их мёртвыми глазами. Но когда они брали меня с собой, дел у нас было хоть отбавляй. Мы воровали яблоки в саду за рыбхозом, пугая друг друга сторожом, у которого было ружьё заряженное солью, мы ходили купаться на речку, мы лазили по меже, которая соединяла все огороды одной стороны улицы, и объедались клубникой, черешней, крыжовником и всем, что к моменту нашего налёта успело созреть, или хотя бы перестало быть до несъедобности кислым. За это нас не очень-то любили соседи, и очень часто жаловались на нас нашим старшим. И снова пьяный дед бегал за Лёхой, а тот матерился на всю улицу, Кольку закрывали в своей комнате на целый день, и тогда мы вдвоём с Серёгой либо копошились в какой-нибудь куче песка, либо читали приключенческие книги. Но обычно уже к вечеру всё становилось на свои места. Лёхин дед спал мертвецким сном, храпя на весь дом, Кольку выпускали досрочно-условно до следующей нашей проделки, и тогда мы собирались вчетвером на большом бревне, лежавшем в конце улицы и разжигали костёр.
К нам присоединялись Серёгины сёстры, девятилетняя красавица Маринка с соседней улицы, в которую мы все были влюблены, и пара-тройка местных карапузов от четырёх до шести, которых мы любили пугать страшными байками. Рассказывали мы их с душою, и надменно посмеивались, когда карапузы испуганно жались друг к другу, а девчонки глубоко вздыхали, округляя глаза.
— Я вам честно говорю, — начинал Лёха. — Я ничего не выдумал, это и на самом деле было. И было это в нашем селе. Недалеко от нашей улицы — говорил он небрежно, показывая рукою куда-то во тьму, и карапузы придвигались поближе друг к другу, а девчонки пугливо вздрагивали.
— Помните бабу Шуру? — продолжал он. — Которая жила, где сейчас Белоусовы живут, в том доме. А было бабе Шуре уже лет восемьдесят.
Мы с пацанами едва слышно хмыкали. В прошлый раз бабе Шуре было семьдесят пять, а в позапрошлый семьдесят, но девочки и карапузы эту историю ещё не слышали, и мы с самым серьёзным видом помалкивали.
— И была эта бабушка Шура очень одинокой, — голос Лёхи временно брал грустную нотку. — Никого у неё не было. Одна-одинёшенька. Оставалось ей жить совсем недолго. Она уже даже гроб себе заказала.
При слове гроб и без того тесные ряды карапузов смыкались ещё плотнее.
— Чёрный такой, а оборочка беленькая, — Лёха понемногу и сам начинал верить в то, что говорил, отчего его голос время от времени срывался от волнения. — И наказала бабка Шурка, чтобы её возле мужа ейного похоронили. А муж у неё с войны контуженый вернулся и без руки. Поэтому пил очень сильно и скоро сгорел от самогона. Мучился очень перед смертью говорят. А мой вон ни чё, хлыщет, и хоть бы хны — Лёха на секунду зло прищуривался, и пламя костра отражалось в белках его глаз как-то нехорошо, но тут же снова он округлял глаза и продолжал уже полушёпотом — И вот как-то ночью, когда гроза сильная была, бабка Шура взяла и померла от старости. Целых два часа хрипела, но всё старалась дышать. Губы уже почернели, а она всё хрипит и хрипит.
— А ты откуда знаешь? — недоверчиво спрашивала Маринка. — Ты что, там был?
— Дед мой был, — недовольно говорил Лёха. — Он и рассказал. Не перебивай меня всякими глупостями — Лёха зло плевал в костёр — Так вот. Почернели у неё губы, а она всё дышать хочет. Грудь ходуном ходит, трясётся вся, а смерть всё не забирает. Ну потом всё-таки померла. А когда хоронить стали, оказалось что место возле мужа ейного уже занято. Там дядьку Гришку похоронили, конюха, помните? — зачем-то спрашивал у нас Лёха о людях, которые умерли, когда мы ещё и не родились совсем — У него оказывается там рядом мать похоронена была, и он наказал чтоб возле матери его поклали. Ну а что делать-то? Подумали, подумали, да и заховали на краю кладбища. Ну, помянули, как следует и разошлись по домам. А с той поры и началось. Это много кто видел — Лёха переходил на шёпот, от которого по коже начинали бегать мурашки — Бабка Шурка эта, в полночь из своей могилы откапывается и к могиле мужа идёт. На лавочку там садится и всё что-то шепчет, а потом поднимается и идёт в сторону села. Глаза у неё мёртвые, а горят зло так, и всё шепчет и шепчет что-то. А на щеках грязь вперемежку с гноем, и из под платка белого, в котором её хоронили, волосы длинные вниз свисают, седые-седые. Я сам видел.