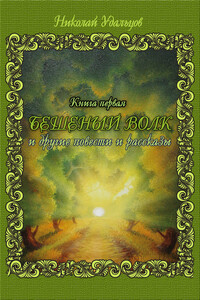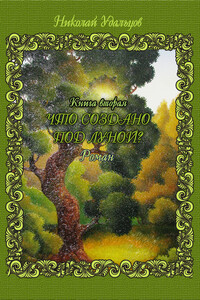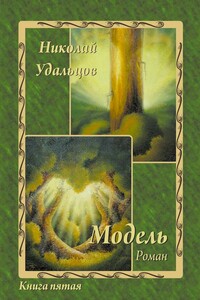Петр Габбеличев позвонил мне и сказал о том, что у Олеси СПИД.
Мы договорились встретиться у Андрюши Каверина, хотя нам обоим, в то время, было не понятно, чем мы можем помочь – СПИД – это ведь такая вещь, что переливанием крови не обойдешься.
А потом я сел и задумался о том, что такое везение.
Вот, например, мой дед, генерал, был репрессирован дважды, а, значит, дважды ходил по краю жизни. Дважды незаслуженно и бессмысленно рисковал тем, что, в лучшем случае, сгинет в холодных до мозга костей, и голодных до дистрофии колымских или воркутинских, известных ужасом смерти, или безвестных, и оттого еще более страшных, интинских, омских, волжских, читинских или еще каких, многосотенных, номерных лагерях.
И, вроде, не повезло моему деду.
Но сам дед, считал, что ему повезло.
Потому, что в первый раз, его арестовали в середине июня сорок первого, а в июле, многих генералов и старших офицеров, в том числе и моего деда, стали выпускать – не хватало Сталину командиров для бессчетной армии.
А второй раз, деда арестовали первого марта пятьдесят третьего, а уже седьмого марта, Берия стал выпускать подследственных.
Такое вот, везенье-невезенье выпало моему деду.
И, поди, разберись – где она, правда…
Я думал о везенье.
Не догадываясь о том, что о везенье думает и мой друг Андрей Каверин.
Может, мистика в этом какая.
А, может, о везенье думают все нормальные люди…
Хотя, приходить к выводу о нормальности в то время, когда другой мой друг, Вася Никитин, находится в сумасшедшем доме, не очень корректно. Как, вообще, не очень корректно, приходить к выводу о нормальности.
Когда-то, на какой-то презентации еще более какой-то выставки, мне пришлось разговаривать к кем-то, с кем я был знаком чуть-чуть, или не знаком совсем, что еще менее ответственно. Кстати, выставка мне совсем не понравилась, но я не говорил об этом, когда перешагивал через ворох грязных, мятых рубашек носков и трусов, разбросанных по полу. Я как-то не понял, что это искусство, потому, что никогда не относился как к искусству к тому, что иногда скапливалось на полу в моей собственной ванной.
В этой мешанине я и разговаривал с тем самым кем-то.
И хотя я слушал его не очень внимательно, до меня все-таки донеслась его фраза:
– У вас, людей творческих, иной склад психики, необычный.
Видимо, я к тому времени еще не много выпил даровой водки, и потому, не ответил.
Хотя, ответ у меня был:
– Необычный, иной склад психики, у людей нетворческих…
А у творческих – с психикой все в порядке…
…Потом мне позвонил Андрей:
– Что тебе сказал Петр?
– Что у Олеси СПИД.
– А, что еще он сказал?
– Больше ничего.
– Н-да. Петр такой умный, что даже молчит, когда ему нечего сказать.
На политические разговоры меня не тянуло, и поэтому я не сказал, что именно этим, Петр отличается от нашего правительства.
Я вышел на балкон. Подо мной был пустой двор, уже оставленный шедшими на работу, пустая мостовая, от которой откатили машины работавших, и еще не начали заполнять те, кто остановился возле нашего дома по своим, дневным делам.
Впрочем, мостовая оказалась не такой уж пустой – на ней, прямо под моим балконом, одиноко стоял мой «Ленд-ровер».
Я посмотрел на свою неприкаянную машину и подумал о том, что сейчас мы с ней оба одиноки.
Дело в том, что последнее время, я ощущаю вокруг себя какой-то вакуум.
В любом случае, мне одинаково не нравится и то, и другое.
Вакуум – это пустота.
А пустота начинается с безразличия.
Мне стало надоедать все, что я делаю, а тому, что я делаю – стал надоедать я.
Толи это начала кризиса, который у меня всегда короткий – с неделю, не больше, но глубокий и жилотянущий, толи это конец молодости, которая во мне, кажется, подзатянулась.
С этим предстояло смириться.
Так, как ничего серьезного на горизонте не предвиделось, если не считать того, что я собирался заключить договор с Домом Высоцкого о написании серии картин по песням Владимира Семеновича.
Впрочем, собирался я сделать это уже давно, а то, что собираешься сделать давно – вроде, как, уже и не собираешься.