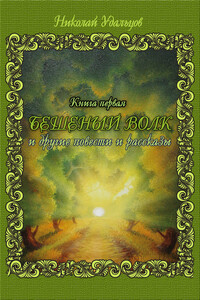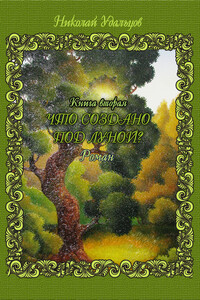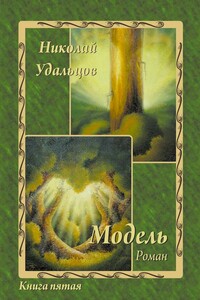Или, может республиканцы, для начала, расстреляли слишком много непричастных, чтобы потом у соплеменников не выработалось бы рефлекторной дуалистичности: республиканец – бешеная собака.
А может, просто рожи этих республиканцев соплеменникам не понравились. Хотя, признаться, мне приходилось видеть альбом, его потом в какой-то музей передали, с фотографиями этих самых республиканцев – рожи, как рожи.
Ничем не хуже, чем у конституционных монархистов, или членов любой другой секты,» – думаю я, и сам удивляюсь тому, какая чушь лезет мне в голову.
Впрочем, меня понять можно.
Всю ночь, кошки, которые понятия не имеют о том, что настоящая любовь бывает только днем, устраивали свои свадьбы под моими окнами.
И вот теперь я иду на нелюбимую работу еще и не выспавшийся, в придачу к тому, что мне вообще не хочется на работу идти.
Я не в обиде на кошек.
Во-первых, еще не хватало, чтобы я на кошек обижался.
А во-вторых, весна – есть весна.
Весна – это время, когда все женщины красивы.
В том числе, и медсестра из первого отделения, Лара, которая идет на работу впереди меня, и не догадывается, что, идя позади нее, я ей восхищаюсь.
У нее очень красивые ноги, сейчас обутые в туфли на высоком каблуке.
Видимо во мне огромные запасы восторженности. Несмотря на мою работу, я еще могу восторгаться знакомой женщиной, даже зная, что она мне не отдастся…
…В детстве я мечтал стать водолазом.
Лет до семи.
Интересно, каким бы был мир, если бы все люди становились теми, кем хотели стать в детстве?
Во всяком случае, в этом мире был бы очень большой дефицит психиатров-наркологов.
А, может, психиатры-наркологи в этом мире и не понадобились бы вовсе…
…Еще подходя к дверям своего отделения, я заметил во дворе непривычный автомобиль. Хотя, привычными во дворе отделения являются только кареты с красными крестами на дверцах.
Впрочем, что именно, в этом автомобиле являлось непривычным, я не подумал, а только обратил внимание на не большие тиски на переднем бампере.
«Передвижная мастерская какая-то…» – подумал я и поднялся в свой кабинет на втором этаже.
Номера на автомобиле были московскими.
Когда я вошел в свой кабинет, комнатушку так себе, безремонтную уже лет восемь, со столом, помеченным алюминиевой биркой «Собственность райотдела здравоохранения. 1958 год», настенные часы показывали одиннадцать.
Начало моего рабочего дня. Раньше приходит только дежурный врач.
А иногда, и он не приходит.
Утром больные завтракают, потом, под контролем санитаров, занимаются действием под непонятным и им, и врачам названием «трудотерапия», и лишь после всего этого начинается то, ради чего они – и те, и другие – здесь оказались.
Лечение.
Впрочем, ради чего оказались здесь две трети из больных – для меня секрет, что-то вроде государственной тайны.
И не понятно.
И не понятно – кому это нужно.
То, что большинство из моих пациентов возьмутся за стакан часа через полтора после того, как покинут нашу больницу, я знаю. Как знаю то, что большинство из этого большинства через год-два снова окажутся здесь.
Такими же, как были.
Только на один пьяный год более поношенными.
Три-четыре человека из полусотни, хотят лечиться, и к ним я применяю свою собственную методику.
Я опубликовал ее в виде монографии, но она затерялась в потоке таких же монографий выползших на божий свет во временя антиалкогольного указа.
Теперь уже почти забытого.
Диссертацией эта монография так и не стала. Что поделаешь – даже в коньюктуре важна коньюктура коньюктуры.
Я знал истории болезней тех, кто лечился по-настоящему, но для чего-то все равно достал тоненькие папочки из верхнего ящика стола:
Семенов В.И. инженер, белая горячка.
Рублев П.Л. рабочий театральной сцены, белая горячка.
Скрипников Ю.Н. учитель, корсаковский психоз.
Ну, что же.
Можно приступать к работе.
Работе, при которой учителя с корсаковским психозом встречаются куда чаще, чем без него…