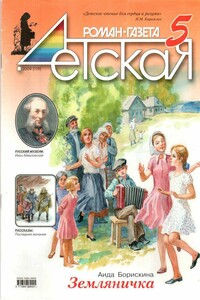— Портянкой, что ль? — разжигал Асланбекова Суржиков.
— Портянка отдам, шинел отдам — шей другой язык. Помощником смертям Танечку называл? Называл. Пупсиком называл? Называл. Зачем еще — мышиным хвостиком? Шакал лает — шакал бьем, Сюржик лает — кого бить будем?
— Прекратите, Суржиков! — строго сказал Бондаревич. — Надо же знать меру.
Танечка подошла, улыбаясь всем сразу.
Невысокая, тоненькая, перетянутая в талии так, что еще немного — и ремня хватило бы на полных два оборота, с косичками, задорно торчащими из-под пилотки, она была похожа на школьную пионервожатую, которая и старается выдержать серьезный тон, приличествующий ее положению, и не может выдержать, потому что это в высшей мере противоречит ее юному естеству.
— Опять диверсантов искать? — скривил гримасу Суржиков, протягивая Танечке вместе с майкой вывернутую гимнастерку. — Через день да каждый день. Ох и надоело же это мероприятие! Жють!
— Ему надоело! — искренне удивилась Танечка. Тут же принялась объяснять Суржикову, что вот это самое «мероприятие», к которому он относится с таким пренебрежением, уже два года сберегает армию от эпидемий — самых страшных спутниц прежних войн, что вопросами санитарно-гигиенической профилактики в войсках занимаются очень ответственные люди.
Асланбеков, как на чудо, завороженно глядел на Танечку, Чуркин, задымивший толстенной махорочной самокруткой, хитровато улыбался в прокуренные усы, Суржиков таращил глаза, перебивая время от времени Танечку возгласами удивления, чем подхлестывал в ней и без того неукротимое красноречие. Когда Танечка выговорилась наконец, Суржиков нагнулся к ней, прошептал что-то озабоченно и серьезно. Девушка оторопела. Потом, вспыхнув, швырнула гимнастерку прямо в лицо ему, крутнулась и побежала. Женя устремилась за ней. Суржиков как ни в чем не бывало присел на бруствер.
В окопе стояла гнетущая тишина. Покусывал губы побледневший Асланбеков, Чуркин мрачно жевал ус. Бондаревич был уверен: раз спасовала даже Танечка, не имеющая привычки лезть в карман за словом, — выходка Суржикова была грубой и обидной. Выяснять это сейчас не имело смысла — правды Суржиков не скажет, и все-таки Бондаревич не удержался.
— Рядовой Суржиков… Встаньте, когда с вами говорит командир! Объясните, что случилось.
Суржиков нехотя сполз с бруствера и, ухмыляясь, молчал.
На помощь командиру пришел Чуркин:
— Ну?
— Чего — «ну»? Запряг, что ли?
— Кабы моя воля, я б тебя запряг, сукин ты сын. Выкладывай, каким распреласковым словом девчонку обидел.
— Хе!.. Чем я ее мог обидеть?
— Тебе лучше знать чем. Начал-то ты гладью, да, видать, кончил гадью. Ох, Костька, Костька… Конечно, смирную собаку и кочет бьет, но ты уж чересчур звягливый. А ведь не без царя в голове, только идет у тебя все как-то сикось-накось. Ну, скажи, что она тебе плохого сделала? Ведь девчонка вся насквозь светится добром, чистотою своей, а ты так вот походя ее обидел!.. Женщину обидел!..
— Хы… Какая ж она женщина?! Ей и в девках еще места нету… — пренебрежительно осклабился Суржиков.
— Замолчь! — гневно крикнул Чуркин. Бондаревич впервые видел этого мягкого, добрейшего человека таким возмущенным. Асланбеков одобрительно цокал языком, Лешка-грек глядел на старого солдата испуганно. А Чуркин продолжал рассудительно и как бы с личной обидой: — Всем им, девкам, одна планида светит — матерью быть, а ведь самое дорогое, самое светлое — от нее, от женщины, от матери, которая ведь и тебя в муках родила, сучок ты конопатый. Кого ж ты обижаешь? Ты ж, окромя всего, в Танюшке и бойца обижаешь, который ко воем нам добровольно пришел на подмогу… Думаешь, сладко им, девкам-то, солдатскую дробь-перловку жевать? Не страшно, не горько пули и осколки ловить и в могилу ложиться по девятнадцатому году? А-а, молчишь, безумная твоя голова.
— Ладно, хватит воспитывать, воспитался уже, — буркнул Суржиков, скучающе глядя в небо и почесывая через гимнастерку живот. — Давай, сержант, наряд вне очереди, и замнем для ясности. Хрен с ним…
Разговор оборвался — возвращалась Женя.
К полудню прилетели тренировочные самолеты. Ходили на разных высотах, применяя противозенитный маневр. Об этом в расчетах мечтали давно. Едва батарея успевала «обстрелять» одну цель, Мещеряков требовал координаты другой. И снова — команды, доклады, шмелиное зудение орудийных принимающих, щелканье затворов, — и все ради того, чтобы стволы четырех орудий двигались в одном направлении, чтобы по короткой, все завершающей команде — «Огонь!» — батарея, будь это настоящий бой, рявкнула залпом, посылая четыре снаряда в одну, заранее рассчитанную точку.