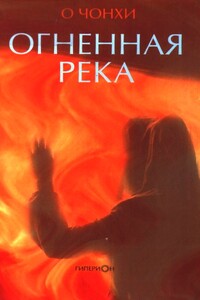А мне и самой это известно: сама голодная, ноги уж плохо ходят. И говорю им:
— Бабы, ведь и мой муж там, где и ваши. Только мой уже погиб, наверное: без вести пропавший — почти погибший, а у вас есть и живые. Они там, на фронте, как в аду, среди грохота пушек и пулеметов, каждого из них могут убить. Ну, давайте бросим работу, разделим семенной фонд, оставим их без будущего хлеба, пусть голодают, да? Вы голодаете, а я разве нет? Не мои ли дети вместе с вашими на полях мерзлую картошку ищут да траву собирают? Да, мы — голодные, но у нас хоть крыша над головой, нам хоть тепло, не рвутся снаряды над нами, пули рядом не свистят. А мужьям нашим… Ну, давайте бросим все, сложим руки, пусть немцы придут и сюда, потому что фронту без нас — никак! А семена… Не дам я вам семена, хоть убейте, потому что без этих семян мы не сможем выжить вообще.
Женщины затихли, но, чувствую, сейчас вновь взорвутся, и кто знает, взбунтуются окончательно, отберут ключи от семенного амбара. Но тут, кажется, Саня Марченко встала на ноги со скамьи и крепко выругалась:
— Ах, в мать-перемать такую жизнь! Пошли, бабы, в поле, верно Паня говорит, чего уж там…
И женщины гуськом потянулись к выходу.
Отсеялись мы. Откосились. Сняли урожай. Сдали государству хлебопоставки. Засыпали семенной фонд, страховой фонд, а на трудодни-то и делить вновь нечего. Хорошо, что есть огороды, а с них — овощи. Есть коровы, овцы да козы на подворьях, подкормилась скотина летом, все-таки жить можно. А у меня опять ничего нет. И я не знала, чем кормить семью в наступающую зиму. И тогда написала заявление в райком партии, чтобы отозвали меня обратно в город, где хоть и нет подсобного хозяйства, но есть продовольственные карточки на работающих и иждивенцев. Райком прислал мне замену — фронтовика-инвалида, опять же горожанина.
И вот спустя столько лет думается мне, почему колхозы зачастую возглавляли люди, далекие от сельского хозяйства, почему работники райкомов заставляли колхозников сеять и выращивать то, что не подходило по погоде и плодородию земли, считалось почему-то, что сверху, то есть из райкома, виднее, как вести колхозное хозяйство. Что это было: в самом деле, неразумная политика партии или же бестолковость местного руководства, которое из кожи вон лезло, чтобы угодить областному начальству, а то, в свою очередь, центру? А тогда я об этом не задумывалась, просто шла туда, куда посылала партия, даже если о предстоящей работе и представления не имела, понимала: надо…
Да и в город-то уехала не сразу: меня избрали — опять же по рекомендации райкома партии — председателем сельсовета…»
— Паня! — Ефимовна ворвалась в кабинет растрепанная, раскрасневшаяся. — Паня! Люсенька умирает! Тебя зовет!!! Беги к ней скорей!
— Что?!
Павла бежала к дому, спотыкаясь и задыхаясь, сердце, ослабленное в детстве ревматизмом, бухало у горла. «Люсенька, кровинушка моя, — шептали губы, — деточка!» — вырывалось хриплым шепотом из горла.
Люсенька родилась на второй год войны, как и положено, через девять месяцев после приезда Павлы из Еланских лагерей, где учился на сержантских курсах Максим, оттуда его дивизия должна была идти на фронт. Две ночи прошли как один миг, в ласках, разговорах, советах, как жить Павле. За стеной стонала метель — шел октябрь сорок первого.
— Трудно тебе будет, Паня, столько ртов, — печалился, жалея жену, Максим. — Ты мою одежду продай, не держи, кое-что мальчишкам перешей, Витька, небось, вымахал с версту.
— Он в буденовке твоей ходит, — сообщила Павла, и Максим улыбнулся благодарно: и потому, что пасынок из памяти о нем носит его старую буденовку, которая осталась у Максима с гражданской войны, и потому, что просто любил настырного упрямого парнишку, которого не отличал от родных детей.
— А Генашка как?
Максим спросил неспроста — Гену били припадки. Все случилось нелепо и просто. Еще в довоенную пору, когда жили в Тавде, приехали однажды в гости братья Дружниковы, дюжие мужики, поллитровка на четверых — пустяк, потому выдумщик Максим и предложил накрошить в миску хлеба и залить водкой. Братья хмыкнули, а когда перестали черпать пьяное хлебово, из-за стола встать не смогли. А раз так, то грянули в четыре глотки песню, Павла даже не успела предупредить их, что дети уже спят. Старшие только шевельнулись во сне, а Гена вздрогнул, зашелся в крике, еле успокоили его. А через месяц малыш упал в первом припадке. Врач поставил диагноз: эпилепсия от испуга.