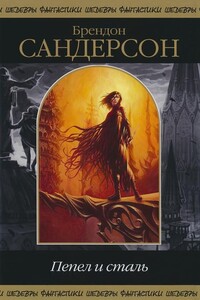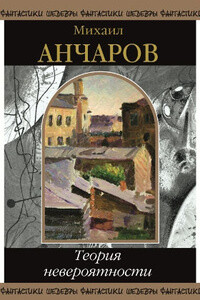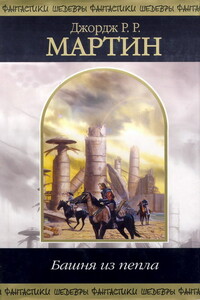Война кончается, и опять я, живой, отлеживаюсь в госпитале, и повязки отстригают, и от ран отторгают, и снова накладывают бинты, и еду подносят, будто я с работы пришел.
Мне повезло в войне, я постепенно в нее входил.
Если сейчас от темной ночи, от темной и тайной боли или от случайной заразы не помру, то похоже, что я и в этой войне выжил. И даже знаю об этом.
А за окном весна и немецкие люди. И они на нас смотрят беглым взглядом поражения, а мы на них — долгим взглядом вопроса: как же так?…
Мне полвека, и тому, за окном, — полвека, и он несет кастрюлю.
У него ноги нет, может, еще с той войны и потому жив, а у меня еще вопрос решается — то ли будет нога, то ли тоже на протез встану.
„Эй!“ — кричу.
Тот останавливается — голова в плечи, из кастрюли выплеснулось, и ждет. Так и молчим. Нет еще у нас слов разговаривать. Я его язык слушать не могу, и буквы его на дорожных указателях для меня как колючая проволока. Я для него — руссиш швайн, и крикни я — отдай суп! — и он отдаст, и больше у него в голове про меня ничего нет, и, может быть, он боится, что я в него выстрелю из деревянного костыля, и, может, это руссише сверхсекретное оружие.
Что-то в нем начинает дрожать, и крышка на кастрюле зудит. Он поднимает на меня сначала брови, потом глаза, и что-то во мне начинает дрожать и зудеть. И я вижу, что он из своего тела на меня смотрит, как из покалеченной собачьей будки, и я смотрю на него из своего тела, как из покалеченной собачьей будки.
— Ладно, — говорю. — Что скажешь!.. Эх… Вифель тебе лет?… Таг тебе сколько?
— Фюнф… — Он прокашлялся. — Фюнфцейн.
— И мне фюнфцейн… — показываю на себя. — Полвека.
Он поставил кастрюлю на землю, плечи поднял, развел руками и мотнул головой.
— Эх… — говорю, и махнул рукой. — Иди.
Он поднял кастрюлю и ушел.
— Абедать!.. А-а-абедать!.. Ба-альные! А-абе-дать! — кричит сестричка. — Эй! Славяне!
Эй, славяне! Разруха-то какая! Аллес капут? Или, может, нет еще? Что же люди на земле друг с другом делают? Неужель эта война не последняя?
Мне повезло. Я в эту войну входил постепенно, как в реку, только соленая та река, и красная, и быстро густеет на холодке. И было время оглядеться. А молодым как, которые прошлую войну только по „Чапаеву“ знали, а в эту войну с первого дня нырнули, в адский огонь и смерть? Молодые, как они? Я даже представить себе не могу. А как я сам в пятнадцатом, я уже на этой войне забыл.
Я-то на войну в сорок втором пошел, почти через год, как началась, сначала в Москве к бомбежкам привыкал — было время оглядеться. Потом у партизан привыкал, опять же это мне знакомо, вроде гражданской войны. А когда уж фронта достиг, почти притерпелся. И выходит, что я постепенно к войне привыкал. К смерти не привыкнешь, но все же не то что из квартиры в огонь, как Сережа и Валя.
— Ты спи, — говорит сосед. — Сон оказывает чудодейственное влияние.
— Это верно.
— Всю эту страну надо под ноготь, — говорит.
— Этого нельзя.
— А если б они нас повоевали?
— Так ведь это не случилось.
— Ты, главное, не думай.
— Мне не думать нельзя, — говорю. — У меня внук Генка-балбес растет.
— А дети твои?
Что я ему отвечу? Где мои дети? Один в роддоме замерз, другой в войне сгорел, а третьего — приемыша — как ветром сдуло, может, ветром и принесет.
— Ну прости… — говорит сосед. — Тебе выжить надо. Тебе выпить надо.
— А где взять?
— Не знаю… Только в соседней палате один чмырь лежит… всегда под газом. Где берет — никто дознаться не может, а всегда бухой. Уж его обыскивали, а ты попроси.
А у меня сердце екнуло. Думаю — неужели?
Взял я костыль и поскакал в соседнюю палату. Мне показали, где он лежит. Я подошел, наклонился, он глаза открыл.
— Анкаголик? — говорю. — Никак ты, бессмертный?…
Ну, проговорили мы с ним с вечера до утра. Все мне рассказал, что знал, и я все вспомнил, что смог. А утром говорит:
— Пошли… Тут фриц один к нянечкам за супом ходит. Принесет. Тоже анкаголик. Тпфрундукевич. Ты меня с тылу прикрывай.
Спустились мы во двор, к ограде подошли, доску отодвинули, и вижу: идет вчерашний немец на протезе, кастрюлю несет и оглядывается. Увидал меня и затормозил. Но бессмертный Анкаголик ему машет: ничего, мол, свой. Анкаголик из халата достал резиновую грушу с белым наконечником, а тот наклонил кастрюлю набок.