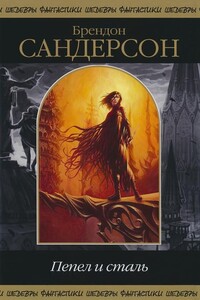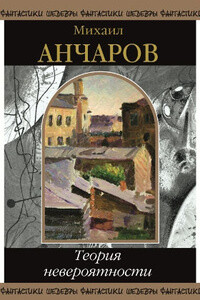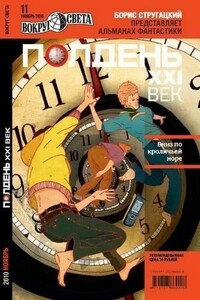Раненые слезли с телег и носилок, в кровавых бинтах, и запели «Интернационал», и пошли через минное болото по взрывам, и бинты и остальное разматывалось на кустах. И когда утихла песня, по болоту ушли все живые и унесли знамя, а среди тех, кто пели, был Сережа без руки и с ним Валя, совершенно целая.
Прощайте, детки мои, в жизни, в смерти и памяти неделимые.
Где взять силы?
Меня ведь завалило-засыпало на Курской дуге, и «фердинанд» утюжил траншею, но я жив. И откуда я узнал, кто сказал, кто рассказал, кто описал, откуда я голоса слышал Серегин и Валин, — я все вспоминаю вот уже полгода с лишком почти, а вспомнить не могу.
Ранен был не очень, и не раздавлен танками, и не убит, а что-то во мне надломилось в сорок третьем, и только понимаю одно: что началось воскрешение мира из мертвых.
Буду ли убит или проживу еще, но земля перелом прошла, и помнить ничего, кроме этого, не могу, или душа не хочет.
Курская дуга. Вот он, год, и день, и час. Сон ли я вижу?
…И слепящее, грохочущее безмолвие и безумие конца света.
Семнадцать танковых дивизий двинули немцы, и еще три моторизованных, и еще восемнадцать пехотных, а всего тридцать восемь дивизий, и с воздуха их прикрывали две тысячи самолетов. И с нашей стороны — войска с Центрального, Воронежского, Западного, Брянского и Сталинградского фронтов.
Тридцать восемь дивизий и войско с пяти фронтов рычат в одном котле у Обояни, у Ольховатки, у Прохоровки.
Полторы тысячи танков, взрываясь, сшибаются только у одной Прохоровки во встречных боях, в одной свалке, — это невозможно себе представить, если знаешь, что такое один танк.
Дорогие, если на ваши глаза навернутся слезы, то пусть иссушит их наша клятва, которую дали мы перед павшими героями, — мы падем лицом на Запад, до конца выполняя клятву спасения.
И в сорок четвертом я еще жив и знаю: Сережа! Валечка! Сон ли я вижу.
И тогда раненые не захотели умирать бессмысленно, и тогда они постановили своим высшим судом сделать то, чего живые сделать не могут, и они пошли на минное поле, жертвуя собой.
Это было в начале войны в районе Мясного Бора. Туман на лугу, и от росы видны следы в траве. Передние шли, и с «Интернационалом» шли за ними их товарищи. А когда первый взрывался на мине или падал, скошенный пулей или осколком, то второй шел по этой кровавой лыжне, по кровавой тропе. Лес, луг, трава в росе и трупы наших лучших товарищей, перебинтованных, раненых, в нижних рубашках… Вот слышите — некоторые еще живы, ползут по траве… Прощайте, товарищи. Это есть наш последний и решительный бой… Взрывы, взрывы… по своим костям идем… Народ вспомнит. Но как же я с этим буду жить… Это есть наш последний… Снимите шапки.
…Помни, отец, помните, дядя Петя… Помню, голубчики мои Сережа и Валечка, помню, родные мои, жених и невеста, войной обвенчанные… Помню. Помню, почему вы на мины пошли… Нет больше левого фланга, дядя Петя. Мы передвинулись метров на триста… Сотни трупов, немцы и наши вперемешку, кругом рвутся снаряды, из восьмидесяти шести раненых осталось сорок три… В эту сторону не пройдешь, даже если все ляжем… Нет больше и правого фланга, немцы вклинились в оборону, вводят в прорыв танки и мотопехоту, их головные подразделения вышли к шоссе — слышишь, отец?… Слышу, Сереженька, слышу, слышу, Валечка, слышу… По которому двигалась в тыл наша колонна с ранеными… Где немцы, где наши, понять нельзя. Все время в воздухе что-то рвалось… Счастье, что шли по краю болота, почва мягкая, и многие бомбы не взрывались… Вышли из болота, там завалы из деревьев, искалеченных снарядами, все перепутано колючей проволокой, и трупы, трупы, лошади и люди… Раненые шли не скрываясь, фашисты видели, что это — раненые… Они шли в бинтах, раскинув белые полотнища с красными крестами… как записано в международных конвенциях, дядя Петя… Они били из дзотов по окровавленным бинтам… Это были прекрасные мишени… Скажите нашим, в десяти километрах от основных сил гибнет сражающаяся дивизия, скажите им… Выхода у нас нет, окружены со всех сторон, кроме луговины, где заминирована каждая кочка… Скажите им, что, как только они начнут пробивать коридор, мы выйдем к ним навстречу… Слышите?… Слышу, Валечка, слышу, Сережа… Все слышу… На Курской дуге через два года все слышно. Все слышно… Эй, старик! Зачем мне твое прошлое! Что случилось? Что случилось — быльем поросло! В нашем раю счастливые души день и ночь рубят друг друга и не умирают! А как, рыча и плача, Бальдур махал рукой, оторванной от чужого тела? А как сыщики со спущенными штанами выскакивали из нужников ловить нас? А? А как сисястые японские борцы били друг друга животами и наездники на сцене кормили своих кобыл? А? Хлебово слез, крови, мочи и пота варилось в злобном котле, и обозы давили хлеб, перемазанный дерьмом! А, Иван?! А?… И обиды не находили выхода! А?