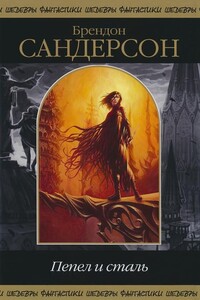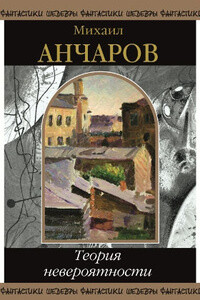- Так в чем вопрос? — спросила она.
- Будет картина?
Она помаялась и сказала:
- Будет.
Олухи захохотали — они знали, картины не будет. А будет стряпня, химия. Потом мы с ней шли до метро, и она с нервными пятнами на щеках говорила:
- Прощаю вас только потому, что у меня прогрессивные взгляды, а у вас каша в голове.
- Так в ней все и дело, — говорю, — в каше. …Леонардо велел вглядываться в пятна плесени на стенах… В них можно увидеть все… Вот начало — хаос… Непредвзятое воображение.
- Леонардо?!
- Да… А если начать с исполнения задачи, то и выйдет исполнение задачи. А картины не будет.
- Почему же?
- Картина открывается в работе, а задачу знают заранее.
- Вы не бойтесь… Я вас на экзаменах не провалю.
- А знаете… — говорю. — И вы не бойтесь. И я вас на лекции не провалю. Другая бы не стерпела, а она была хороший человек.
На том и расстались у метро. Жаль. Я ее до сих пор помню. Так и учились. Говорят, сейчас лучше.
Но делу не поможешь. Прохоров из института уходит. Вот беда. Недолго он.
- Знаешь, — сказал Николай Васильевич Прохоров, — чем Микеланджело отличается от своих эпигонов? В том числе нынешних?
- Еще не знаю.
- Тем, что его герои корчатся от внутренней муки, и движения их тел — лишь последствия внутреннего напряжения… А эпигоны думают, что причина их движений — внешняя. Для истинного художника внешняя причина — ничтожная… Для Микеланджело причина взрывного движения «раба» — корчи духа, а для эпигонов причина — веревки, которыми он связан.
- Да уж, — говорю.
- Поэтому герои Буонаротти — искренние, а у эпигонов — позеры… Мощным движением он берет в руки лопату.
- Не лопату, — говорю. — Газету.
- Да… Газету, — сказал Прохоров. — Искусствоведы знают, как писать, а пишем почему-то мы. Ох, искусствоведы… Амикошонства не выношу.
- А что это?
- Амикошон — это такой друг, который обнимает тебя за шею голой волосатой ногой и у носа шевелит пальцами.
Я это запомнил и такой дружбы не полюбил.
- Кстати, мысль «кто умеет писать — пишет, кто не умеет писать — учит» приписывают Бернарду Шоу, а она принадлежит Чистякову. Академизм не тем плох, что мышцы изучает, перспективу, историю искусств — почему не изучить, а тем, что думает, будто, изучив некую систему взглядов и приемов, станешь художником.
- Да уж… — говорю я с лютой горечью, потому что знаю — этот разговор последний.
- Что сказал Микеланджело, когда увидел, как живописцы копируют его «Страшный суд»?
- А что он сказал?
- Он сказал: «Многих это мое искусство сделает дураками». И ушел из института.
А потом умер.
И я остался в искусстве один.
И Прохоров был в искусстве один и старался сохранить что можно. Но куда идти дальше, и он не знал.
И я стал думать: «А зачем она вообще, живопись? И наверно, она еще для чего-то нужна, кроме рецензий по пятибалльной системе».
Я теперь знаю, куда идти в живописи. Значит, придет еще кто-то и сделает это. Так и учились. Говорят, сейчас лучше.
Я собирался описать десятки эпизодов из институтской жизни, но понял, что они — иллюстрация к тому, что уже сказано, и значит, ни на что не влияют. На меня вовремя напала дикая лень, и я остановился.
Дорогой дядя, пересматривая свою прошлую жизнь, я вижу, как в ней открывались для меня перспективы, одна другой не лучше. Значит, дело было в чем-то третьем. Что же оставалось? Творчество.
Дорогой дядя, но не жди от меня воспоминаний типа «И моя жизнь в искусстве». Это воспоминания о смехе и слезах.
И часто я хочу вспомнить о слезах, но рука пишет о смехе, о смехе. Видно, я уже переключился в другую вселенную и над собой не властен.
Математики вычисляют хохот — а люди смеются над математиками, которые вычисляют хохот.
Потому что вычислить хохот, это все равно, что вычислить душу будущего. А над чем будет смеяться наше будущее?
31
Дорогой дядя!
Я умею наводить сон на людей. Я обнаружил это не сразу. Сначала я заметил, что люди засыпают, когда я высказываюсь.
Я обратил на это внимание и стал думать, а что бы это значило. Размышляя упорно, я догадался, что это скука. Что такое скука, я не знаю, но понял, что от нее удирают. А если не имеют такой возможности, то удирают даже в сон.