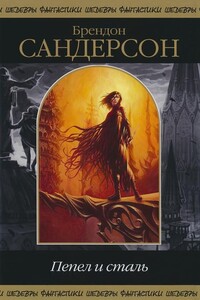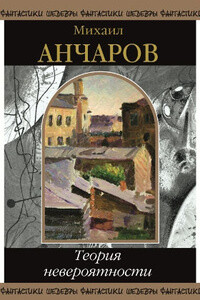Потом он еще показывал маленький деревянный манекен — схему человека на шарнирах — и он мог, манекен, принимать любую позу человеческую. А художник говорил:
- Это для того, чтобы изучать движения. И я подумал:
«Если манекен для того, чтобы изучать движения, — то мне не надо».
А потом пришел его ученик, сын композитора, и он велел ему рисовать яблоко. На голом столе. Зачем? Я понять не мог.
Мы попрощались и ушли.
Как шли по лестнице, тоже не запомнил.
А на улице — лето, жара, зелень, все цветет, все блестит под солнцем. И я всю дорогу его ученице объяснял, что если живопись — это плесень, то мне не надо. Потому что все его холсты были написаны каким-то голубиным пометом. Ужасно это все было. Ужасно. И то, что он ел кукурузу из жестяной миски, и то, что он не имел денег на обыкновенную еду, — в этом он был виноват сам, а не только те, кто не покупали его картины. И главное, я понял, что это мне не надо.
Потом мы доехали до ее дома, поднялись в лифте, и мы окончательно поняли, что мы стоим на другом пути. И в живописи, и в жизни. Иначе будет только одна пыль и нищета. Которые — до старости «никому не надо».
А потом мы вошли в огромную солнечную квартиру, где она жила с родителями. И нам было легко, как будто мы вырвались из кошмара. Я сказал:
- Давай-ка притащи твой портрет, который он писал.
А он написал ее в оранжевой кофте, тоже на таком оранжеватом фоне. Волосы у нее были черные. И теперь я понимал, почему портрет такой пыльный.
Она прошла в соседнюю комнату, сняла со стойки портрет, притащила его туда, где я стоял, прислонила к стулу — портрет был хорошо освещен солнцем. И я увидел его живопись, посмотрел на нее, видел не больше десяти-пятнадцати секунд и понял, что меня надо удавить. Вот так-то.
Потому что я все говорил правильно, но меня надо было удавить, потому что я все говорил правильно, но все это не имело никакого отношения к тому, что я видел теперь, перед собой.
Увидел перед собой и вспомнил то, что я видел в мастерской.
И понял раз и навсегда, что передо мной живопись в первом лице. И все, что я говорил до сих пор, — жалкая ребяческая блевотина, детский словесный понос.
Она попыталась сказать что-то ироническое по поводу этого портрета, но я сказал:
- Молчи.
Она удивилась. А я сказал:
- А знаешь… это ведь необыкновенная живопись… Это прекрасная живопись… Она сказала:
- Что?
Я сказал:
- Это живопись!..
- Но ты же только что говорил другое… Я ей сказал:
- Неважно, что я говорил… Я гнида и осел… И мы с тобой — ослы… А он художник. Она сказала:
- Я не могу так быстро менять мнения. А я сказал:
- А ты не меняй… А просто открой глаза и смотри. Она сказала:
- Что ты от меня хочешь? А я сказал:
- От тебя — ничего… Просто мы были слепые, а теперь мы видим… Ведь никто же не виноват, что сначала мы были слепые, а теперь увидели… Но мы виноваты в том, что мы болтали чепуху, когда не видели.
Я ей сказал:
- Давай поклянемся… не торопиться… никогда не торопиться… Потому что, а вдруг мы что-то говорим потому, что мы просто не видим?.. И можем наделать вреда… А когда мы не видим, то все не будет иметь никакого значения… но мы можем страшно повредить чему-нибудь.
Она сказала:
- Давай.
Я потом понял, дорогой дядя, в чем хитрость его живописи, и позднее расскажу об этом. А можно даже сейчас. Дело в том, что его картины можно было смотреть долго, а вернее, много раз, и каждый раз они выглядели по-другому. Наш глаз видит что-нибудь, если движется сам. Если он застыл неподвижно, то глаз не видит ничего. Спросите у медиков, они подтвердят. Так вот, его картины были гармонизованы мелкими, сплетающимися смесями мазков настолько глубоко, что если преодолеть первое пыльное впечатление от всего холста, то мы начинаем различать красоту цветовых сочетаний каждый раз другую, другую музыку цвета — в зависимости от того душевного состояния, с которым мы сегодня и только сегодня подошли к картине, и для этого душевного состояния нужна эта песенка цвета, а не другая, другая не подойдет.
Такую живопись, правда, помноженную на огромные общественные темы, я видел только у Василия Ивановича Сурикова.