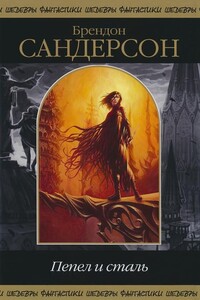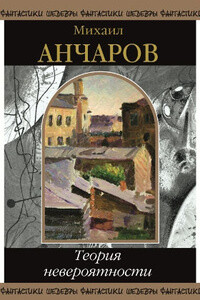Это был единственный такой ответ, и все удивились.
Я и сейчас так думаю, дорогой дядя. Все остальное у нее есть в избытке.
А теперь мне приснился тягостный сон про незнакомых мне женщин, у которых я будто бы имел успех, но хотел от них невозможного — товарищества. А они в жизни достигли почти всего, чего им хотелось, и без этой зауми и нелепых ожиданий. И они надо мной сожалительно посмеивались, и я, неудачник, расставался во сне и с этой иллюзией, и проснулся в тяжелой тоске.
Вот почему я тогда, в поезде, растерялся и стал думать, о чем я буду говорить читателям в Тольятти, зашутовал, стал дурачиться, будто хотел отогнать что-то, мне тогда еще не понятное.
А повод-то был пустяковый — прощание с молодостью, с любовью и тем, чего ждал от нее. Мы ехали… ехали… Вагон вежливо постукивал, сумерки сиренево густели, я никого из них не знал, и мы ехали в незнаемое. Поэзия всегда туда едет.
В то лето сердце выстукивало джаз. Выступал джаз Коралли, и в нем пела певица, которую почти еще не знали тогда — ее звали Клавдия, фамилия — Шульженко. И все сходили с ума, когда она пела — «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали… Пой, играй, чтобы ласковые очи, не таясь, смотрели на тебя». Ночное радио, музыка из чужих окон. И генеральша, почему-то с южным прозвищем Буба, вела по двору на поводках двух доберманов. Она была генеральша еще дореволюционная, была худая, как зонтик, чулки у нее были перекручены. Чем она кормилась, было неизвестно, но два черных добермана тянули ее за собой и лоснились, как браунинги.
Она в давние времена сочиняла слова для песенок, которые Клавдия Шульженко в белой матроске с гюйсом, но без тельняшки пела в каком-то подвальчике. Мне об этом рассказал Эрик, с которым я внезапно подружился в то лето, потому что у него была большеротая насмешливая улыбка, морской кортик в кухонном столе, и однажды он, проходя мимо магазинчика, где продавали вино в розлив, сказал мне: «Выпьем по бокалу „рислинга“». Мы были такие взрослые.
Мы спустились по ступенькам в темное помещение с ослепительным запахом бочек и вина, и нам налили что-то дико кислое и некрепкое. Но когда мы вышли на солнечный тротуар, над которым свисала листва, просвечивающая, как транспарант, то во рту и в носу остался вкус и запах вина, и это было такое счастье, что я понял — этого больше не будет никогда. Эрика потом убили на войне, а я живу и пишу все это. Я знал о тайне Эрика: он считал, что человечество поехало не туда, когда изобрело шахматы. Весь остальной бедлам — только последствия. Что ему сделали шахматы, я не знаю, но вот его аргументы.
Людям без правил поведения жить нельзя. Правила, они как дорожные знаки, — чтобы каждый выжил. Это попытка элементарной гармонии.
И если бы целью шахматной партии была бы, скажем, ничья с наименьшими потерями, это была бы тренировка к нормальной жизни.
Однако цель шахмат подлая и иная. Два противника сговариваются о правилах: е-2, е-4, по которым один будет убивать даже не другого, а подставные фигуры. Тогда вообще зачем правила?
Тем более что в жизни главная задача убийцы — даже эти правила обойти. Были тридцатые годы, и из цивилизованных стран шли свежие идеи убийства души и тела. Спорили только о том, кого убивать, сколько, когда и каким способом. Незыблемым оставалось только одно — убивать надо.
Теорий было много — от «жизненного пространства» до происхождения видов путем взаимопоедания, от необходимости жертвы для потусторонних целей до предрасположенности всего живого к самоубийству — на все вкусы. И во всех теориях, заметьте, абсолютно во всех, живо и с огоньком принимал участие профессор Ферфлюхтешвайн, тренер убийцы, который надеялся, что его помилуют, когда дело дойдет до Нюрнберга.
Профессор Ферфлюхтешвайн обосновывал необходимость любого скотства, лишь бы оно шло по правилам, которые создавал он сам, шахматист, научный хват-парень, чемпионище.
Эрик не занимался моральными возмущениями, он ледяно и впрямую ненавидел чемпионов и вредил им как мог. Например, он их обыгрывал.
Во всех сеансах одновременной игры он приканчивал чемпиона и улыбался.