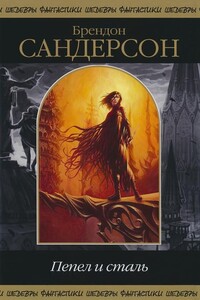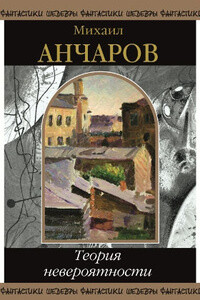— Зайдет и уйдет, — говорит Зотов. — Потому что ты знаешь кто? Ты — ты буфет.
Она прищурила глаза:
— Расплатился?… Ну, иди помечтай… Хоть домой, хоть в залу. Тебе где лучше?… Иди своей дорогой.
— Лучше в залу, — говорит Зотов. — У меня столик заказан. Мне сегодня восемьдесят, дочка.
— Что ж сразу не сказал, старый черт? — тихо спросила она.
Второй раз в этот день его обозвали старым чертом — Нюра и она. Погромче, потише, а все одно — старый черт. Вдруг правда? Но голоса у обеих были, голоса… бархатные, грудные. Неужели природа еще живет?…
Зала… Неживая, машинная… Лиц нет. Только одежда.
Галстук, одиноко пирующий за столиком, а за соседним — столичная длинная юбка с кавалерийскими сапогами, и провинциальная юбка, все еще открывающая ноги до самого до «ура!». В проеме дверей два головных убора — мужской блинок и женский, нашлепкой. Три алюминиевых пиджака на эстраде, с прилипшими к ним бормашинами устарелой конструкции без обдува, и рев усилителей, заглушающих визг тормозов однообразных машин за окном, остановившихся послушать музыку про любовь пылесоса «Буран» к электробритве «Эра».
Обслужили мгновенно. Она подсела, твердокаменная, и говорит:
— Ты меня прости, мальчик, и забудь.
— Нет, — сказал он, — не забуду. Я акселерат.
Тогда Зотов увел Серегу, который бессмысленно смеялся, был красный и охрипший, и руки у него были мокрые и сильные, а в глазах застыл яростный настырный блеск фокстерьера.
Какие тут сказочки про пересохшую реку и пыльных воробьев?
Одним щелчком буфетчица сшибла его на землю и вывернула наружу обратную сторону души, о которой он сам и не знал, пока не встретился с железным спутником Болоньи — никелированным кофейным аппаратом.
Дома Зотов дал ему молока из пакета.
— Дед, как ты относишься к сексу? — спросил Серега, вытирая подбородок.
— Раньше говорили — блуд.
— Как ты относишься к блуду?
— Не знаю. Я старый. Раньше я думал, что весь кобеляж от грязи и нищеты, а будет другая жизнь, и вы будете другие. Теперь жизнь другая, а вы — те же.
— Значит, ты против?
— Мужчину всегда тянет к женщине, и наоборот. Кто будет регулировать их отношения, если не они сами?
— Дед, а как быть, если ему нравится и эта, и эта, а ей — и этот, и этот? Как они должны поступать?
— Сынок, но ведь это боль… Это всегда чья-нибудь боль… Сынок, это вначале приманка, а потом — боль.
— А если все равно тянет?
— Ты помнишь, что ответил Анкаголик, когда тебе не велели с ним дружить, а ты спросил, может ли он бросить пить? Что он тебе сказал?
— «Вот только лицо умою…»
— Ты забыл. Он сказал — «харю». Он умыл харю и стал «лицо» — Дима.
Он посмотрел на Зотова со злобой, в нем неожиданной:
— А если когда-нибудь это не будет болью?… Дед, эта боль, наверно, для тех, кто уже успел полюбить. А кто не успел?
— Верно, Сережа, — говорит Зотов. — Когда ты родился, тебя еще не успели полюбить. — Из-под него будто табурет выбили. — Уеду я от вас, — сказал Зотов. — Чересчур вас много, Зотовых, а я один. Отдохнуть пора… Сережа, самую лучшую молитву, которую я узнал, я прочел у Фолкнера. Ее придумал покалеченный человек, бывший морской пехотинец: «Господи, прости нас, сукиных детей». Сережа, все остальное человек должен сделать сам.
Боже мой, что вы наделали! Поздравляю вас с восьмидесятилетием.
Зотов смотрит теперь по телевизору только детскую передачу. Остальное не может, не может Спокойной ночи, малыши! Хоть бы вы не вырастали.
54
…Клавдия умерла. Отмучила и отмучилась.
…Очень важно различать, что люди думают и что люди делают.
Казалось бы, очевидно, что это связано, а никакой очевидности тут нет. И не потому что человек плох и у него мысль и дело не совпадают, а потому что жизнь к мысли и делу не сводится.
Мы настолько привыкли, что мы либо думаем, либо делаем, что как-то забыли, что мы еще и созерцаем. Настолько забыли, что кажется, будто созерцание и безделие это одно и то же. А это не так. Просто ему нужно найти место в жизни.
Созерцание — это не отказ от дела и мысли и тем более не от жизни. Жизнь и во время созерцания не останавливается. Остановленная жизнь — это смерть. Человек не машина. И выходит, что во время созерцания продолжается жизнь, но только непохожая на мысль или дело.