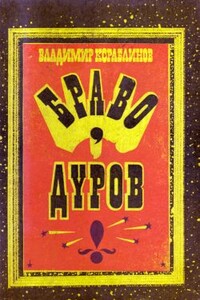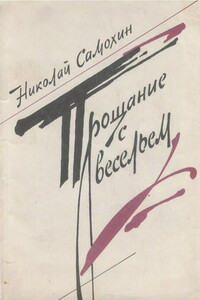Супруги как бы поделили между собой заботы о дочерях. Анатошка же рос сам по себе, как-то в стороне от родительских треволнений, не очень огорчаясь таким положением вещей. Будущее представлялось ему ясным, как цветная картинка в книге волшебных сказок. Цирк, цирк, цирк. Он был талантлив безусловно.
Пока, впрочем, это признавалось только Терезой и мальчишками из Чернозубовского училища.
Телефон был новинкой.
Он выглядел громоздко: большой деревянный, под орех ящик с блестящей круглой чашечкой звонка и неуклюжей ручкой, которую надлежало крутить, как швейную машинку.
Хитроумный аппарат не столько служил делу, сколько развлечению и трате времени в пустопорожней болтовне.
Мучительное душевное смятение художника, о котором говорено выше, Анатолий Леонидович преодолевал прилежными занятиями по музею, фантастическими выдумками и новыми планами. Игра, продолжаясь, становилась все увлекательнее.
С того дня, как телефонисты поставили в доме на Мало-Садовой аппарат, телефонным барышням иной раз доводилось подслушивать такое, что жуть пробирала.
– Алло, алло! – звонил абонент номер сто шестьдесят восьмой. – Граф Калиостро у аппарата…
Голос был приятный, бархатистый.
– Ка-а-ак?! – удивленно, испуганно отзывался восемьдесят второй. – Ка-ак?! Разве вы, граф, не продали душу дьяволу?
– Ха-ха-ха! Продал, конечно… Но при чем тут душа? С вами, милейший, говорит мое бренное тело. Которое имеет… честь… Алло! Алло! А, черт, где вы там?
– Я слушаю, граф.
– …имеет честь пригласить вас, дорогой Семен Михалыч, на соленые рыжики… Да-да! Сам господин Вельзевул обещал пожаловать… Что? Что за вопрос, познакомлю, конечно! Очаровательный мужчина! Кстати, можете и вы с ним договориться, он недурно платит…
В другой раз сто шестьдесят восьмой сообщал, что кости шведских солдат в лунные ночи оживают и с омерзительным воем шляются по всей усадьбе…
– Все бы ничего, да дворник просит расчет!
Восемьдесят второй советовал смириться, не затевать с мертвецами ссоры, а дворнику накинуть к жалованью целковый.
Эти маленькие, телефонные спектакли, эти занимательные шутливые импровизации привели однажды к неожиданной мысли. В один из скучных осенних дней Анатолий Леонидович позвонил Чериковеру и, как это часто бывало, начал в какой-то мистификации.
– Ах, оставь, голубчик, – замогильным голосом отозвался Семен Михайлович. – У меня ужасное настроение…
– Пустяки! – засмеялся Дуров. – Сейчас развеселишься.
Спустя пять минут Чериковер хохотал, давилась смехом строгая телефонная барышня, весело заливались Ляля и Маруся, слышавшие из соседней комнаты разговор отца.
– Ты чародей! – сказал Семен Михайлович.
– Ничего особенного, – серьезно и как-то даже немного печально ответил Дуров. – Порядочно владею искусством смешить, только и всего.
– Искусство смеха! – воскликнул Чериковер. – Слушай, это же чертовски интересно!
«А в самом деле, – подумал Дуров. – Смешить людей – моя профессия, я занимаюсь ею всю жизнь… Как это у меня получается? Да черт его знает, я как-то до сих пор не задумывался над этим… А что, если действительно «алгеброй гармонию поверить»? Любопытно!»
Как всегда, трудная полоса упадка и душевного смятения окончилась взрывом творчества.
Была куплена толстая тетрадь в клеенчатом переплете, над которой – в рассветных петушиных криках, в гулком, медленном бое часов, под ровный шум ненастья – потекли длинные-длинные осенние ночи.
Писал, торопясь, зачеркивая, не очень заботясь о слоге, потому что боялся упустить бег мысли, запутаться во второстепенных мелочах.
Рукопись называлась «О смехе и жрецах смеха».
Что это было? Трактат по физиологии? Научный труд? Фельетон для популярной газеты?
Нет, милостивые государи! Ни то, ни другое, ни третье. Создавалось представление. Номер. Новый вид клоунады, если хотите. Где шутовской балахон и колпак с бубенчиками заменялись строгим сюртуком и профессорской важной благообразностью.
И даже чопорностью – временами.
Впрочем, в стиль как бы академический, научный вписывался ряд подлинно комических сценок, в которых сквозь черноту строгого сюртука просвечивались вдруг хитрые узоры самого настоящего русского скоморошества.