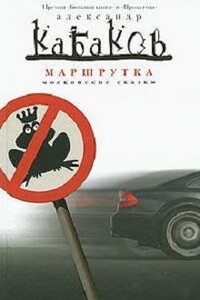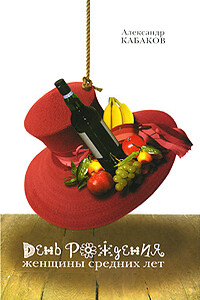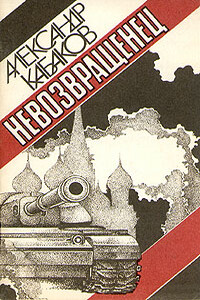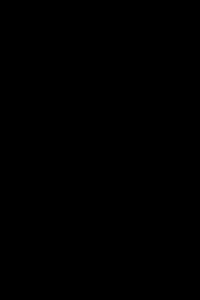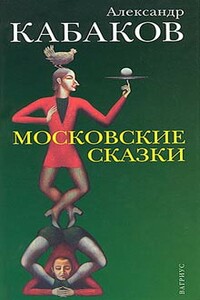Я бесконечно прокручивал в уме и пытался анализировать то, что произошло. В таких серьезных случаях мне помогала интуиция – точнее, инстинкт труса всегда выручал. Уже выйдя из исполкома и спускаясь по проспекту, я понял, что возникшее на основе знакомства с Перевозчиковым вранье относительно «московских мастеров» было очень кстати. Ссылка на высшие столичные силы в нашей робкой глуши срабатывала. Негативы могли вернуть, чем черт не шутит... Во всяком случае, я ничем в моем положении дополнительно не рисковал – из газеты-то строптивого внештатника обязательно попрут, остановить их могут только, опять же, опасения относительно московских связей наглеца. Ведь на чем-то же основана наглость...
Только на подходе к редакции меня начало по-настоящему трясти.
Не было никаких сомнений в том, что заработка я лишился, и никакие туманные намеки на столичные связи не помогут. В Союз журналистов, членство в котором позволяло внештатничать, не считаясь тунеядцем, меня должны были принять только месяца через два, а уж теперь не примут никогда. Милиция, которую редакционные доброжелатели обязательно известят о прекращении моей работы по договору, займется бездельником, предложит немедленно трудоустроиться. В лучшем случае найду в какой-нибудь ничтожной конторе завидную должность младшего конструктора на девяносто рублей, в худшем – грузчиком в магазин, в веселую компанию ханыг. Жизнь кончится...
Никакие радикальные решения вроде отъезда в дальние края по вербовке или бегства в Москву с целью ее покорения в мою и в обычное-то время не очень буйную голову не приходили. Романтика дальних дорог существовала в кино, где не было прописки, отдела кадров, проверки по линии допуска к секретным документам и прочих реальных вещей. А допуск у меня был, и срок его еще не кончился после увольнения из НИИ, так что и последняя возможность – объявить себя скрытым евреем, найти через десятые руки, через толпившихся у синагоги активистов возвращения на историческую родину, фиктивных родственников в Израиле и навсегда покинуть лагерь мира и социализма – эта возможность решения всех проблем для меня была закрыта. И самому было страшно, и стариков было жалко, родителям полагалось писать согласие на отъезд детей, если бы отец подписал такую бумагу, жизнь его превратилась бы в ад, погнали бы из партии и с работы за пять лет до пенсии, если бы не подписал – меня бы не выпустили, а его все равно съели бы за плохое воспитание сына... В нашей области каждое второе предприятие и учреждение были так называемыми режимными, секретными, поэтому в те времена уезжали из едва ли не наполовину еврейского города немногие.
В том, что существовавшее положение вещей останется вечным, не сомневался никто.
Словом, хода не было, со всех сторон сумрачные тупики, и, поднимаясь по лестнице так называемого Дома печати, на третьем этаже которого помещалась наша молодежка, я довольно серьезно размышлял о возможности достать через Таню несколько упаковок какого-нибудь сильного снотворного. Только надо обдумать, как выгородить бедную докторшу. То есть сходить пару раз на прием, зафиксировать в карте жалобы на бессонницу, получить рецепт, а уж потом никто не обязан и не может следить, в каком количестве я принимаю лекарство. И вообще лучше пойти на прием не к ней, а к обычному незнакомому невропатологу... Поехать в Комсомольский парк на том берегу, там в какой-нибудь глухой аллее все и употребить, запив для верности бутылкой водки – чтобы все было ясно и никого потом не таскали...
Сама логичность и продуманность моего плана доказывали, что я был не в себе.
Поднявшись в редакцию, я сразу свернул в закуток, выгороженный из коридора и ограниченный с одной стороны фанерной стенкой не до потолка, а с другой – навсегда запертой дверью на вторую лестницу. Пожарные закрывали на это безобразие глаза... Здесь стояли несколько колченогих маленьких столов, не закрепленных ни за кем из фотокорреспондентов, а используемых всеми по мере надобности. На один из них я вывалил все содержимое кофра, чтобы наверняка убедиться, что пленок в нем нет.