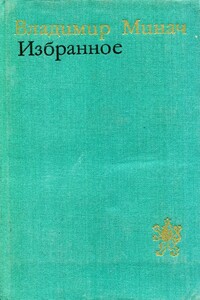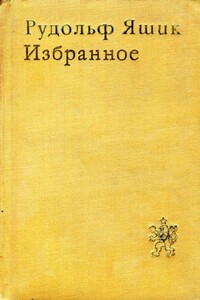Бела отпрыгнула от Файоло, ткнув его локтем в ребро.
— Ой, что будет, Файоло?
— Что случилось?
— На крышу поднимаются мама и Мило, — шепнула она. — Слушай! Господи!
Правый глаз Файоло был черным от сажи.
Высокая фигура Белы стала еще выше. С перемазанным сажей левым глазом она тоже выглядела комично.
А их лица выражали смутное беспокойство.
В приоткрытой нижней челюсти Файоло забелели зубы. Если бы мама Белы хоть не была слепой.
По сухому песку крыши зашуршали шаги. Недалеко от машинного отделения Мило Блажей, держась за кривые боковины лестницы, следил за матерью и радовался, что она поднимается по лестнице. Он ее жалел, он ей сочувствовал, глядя, как осторожно она движется, как боязливо хватается за железные ступеньки, за ржавые боковины. Если бы она видела, подумал он, наверняка никогда не пошла бы сюда на крышу, будь даже затмение полным.
— Только ты не бойся, мама! — сказал он ей и, когда она поднялась выше, начал объяснять, что делать дальше.
— Вот так, мамочка, здесь еще можешь держаться, это такие кривые боковушки лестницы, эту руку сюда, эту сюда, вот так, так! — И когда она уже достигла последней ступеньки, сказал: — Дай руку, мама! — И изо всех сил потянул ее наверх.
— Боже, Мило! А что теперь?
Файоло и Бела, укрытые за будкой машинного отделения, слушали в ужасе.
— Сейчас, мама, — сказал Мило, — сейчас я поведу тебя. Ты только иди очень осторожно, здесь, на крыше, сплошные провода и мачты, сплошные антенны!
— Сколько же их?
— Подожди, сосчитаю!
Пани Блажейова, в пальто с поднятым воротом, вертела головой, вдыхала ветерок, грудь ее подымалась.
— Восемнадцать мачт, восемнадцать антенн!
— Значит, восемнадцать телевизоров?
— Само собой!
— Люди хотят видеть мир?
— Да, мама.
— И много они увидят?
— Ну, я не знаю… Если не заснут у телевизора, то кое-что увидят.
Пани Блажейова засмеялась.
— Мило, Мило! Ну кто, подумай, кто может заснуть у телевизора? Люди могут увидеть передачи из самых далеких мест — только, конечно, если они регулярно смотрят, правда?
— Конечно, мама, — сказал Мило, — и не улучшают программу, как наш отец.
— Ах, Мило!
— Знаю, мама, но… можно ведь иной раз и посмеяться! Знаешь, я думаю, нам хорошо бы заиметь еще один телевизор… — Мило взял мать за руку и отвел ее от лестницы. — Осторожно, мама, вот здесь перешагни! Так! Здесь обойди, иди сюда, вот так, направо! Зайдем чуть-чуть подальше, вот там ты прислонишься к стенке машинного отделения. В будке двигатель, который поднимает лифт, машина, лебедка, на нее наматывается трос…
Он вел ее, а сам рассказывал, стараясь не смотреть на узкий серпик солнца, сияющий как добела раскаленная проволочка. Они остановились у моторной будки. Файоло и Белу, спрятавшихся за углом, отсюда видно не было.
— Подожди немножко, мама, прислонись! Здесь такие железные двери. — Он приложил к глазам закопченное стекло и посмотрел на солнце. — Мамочка! — воскликнул он. — От солнца уже остался кусочек раскаленной проволоки, согнутой дугой, а где раньше было солнце, там ужасная тьма, эта раскаленная проволочка висит вот так, слева.
Пани Блажейова смотрела незрячим взглядом и улыбалась; ей все представлялось солнце, задернутое жалюзи. Потом в ее воображении на далеком и высоком небе возник кусок добела раскаленной проволоки, под ней темный круг и в этом круге — ужасная глубина, потом это ощущение исчезло, и плоская крыша дома как бы поднялась вместе с ней высоко над городом.
— Мило, — позвала она своего мальчика и ухватилась за него, — что, небо ясное?
— Да, мама.
— Нет, наверное, пасмурно, солнце не греет.
— Оно и не может, мама, его же нет…
— Да, верно. А небо голубое?
— Нет, мама, — сказал быстро Мило. — Вон там, — он показал на восток, — там оно фиолетовое, а там красное, а вон там темно-синее.
Пани Блажейова представила темно-синее небо, на небе как будто занимался невероятно далекий, неземной рассвет, темно-голубой, холодный, без чувства, без тепла. Ей представились и звезды, сияющие, как в морозное, еще далекое до рассвета утро.
— Звезды тоже видно, а?
— Да, мама, — ответил Мило, не двигаясь. Он через черное стекло смотрел на раскаленный солнечный серп.