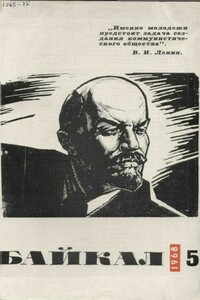Один за другим подлетали шаньюевы нукеры и, застыв от ужаса, не в силах постигнуть происшедшего, немо взирали на того, кто еще миг назад назывался шаньюем, повелителем степной державы Хунну, а сейчас был просто невидим под сплошным щетинистым покровом стрел.
— Воины! — заставляя всех вздрогнуть, прозвучал вдруг резкий уверенный голос: всадник, недавно возвышавшийся на холме, успел спуститься и теперь медленно приближался к окаменевшим нукерам. — Кто из вас видел когда-либо подобное? Смотрите же: только по воле духов могло свершиться такое. Оскорбленные падением могущества Хунну, потерей многих наших земель, начиная с Великой Петли и кончая Иньшанем и Алашанем, они покарали Туманя. Отныне я, законный его наследник, становлюсь вашим шаньюем!
Забытый всеми беркут продолжал меж тем когтить добычу, яростный клекот вылетал из его клюва, но лисица была мертва: мощная птица своими лапами сломала ей позвоночник. Напрасно беркут, гордясь собой, вскидывал голову — не спешил к нему беркутчи, не скакали верховые. Такое непривычное поведение людей встревожило и оскорбило его. Беркут еще раз издал победный клекот, оторвался от земли и, неся в когтях свою добычу, стал уходить в сторону и ввысь — все дальше и дальше, пока не затерялся навсегда в предгрозовом хмуром небе…
Сама себе закон — летишь, летишь ты мимо,
К созвездиям иным, не ведая орбит,
И этот мир тебе — лишь красный облак дыма,
Где что-то жжет, поет, тревожит и горит!..
Александр Блок
Лишь поставив точку на смерти Туманя, Олег ясно осознал, что убийство это — далеко не последнее: перешагнув через труп своего отца, утыканный стрелами до жуткой схожести с гигантским дикобразом, Модэ целиком оказывался во власти неумолимых, железных законов, одинаковых во все века, независимо от того, что являлось конечной целью — золотой скипетр королей или войлочный трон хуннских шаньюев. Яньчжи была обречена, был обречен маленький Увэй, смерть ждала князя Сотэ. У Олега не хватало ни духу, ни желания вникать в подробности их смерти да еще и других делать свидетелями этого. Утешением — если, конечно, считать это утешением — служило только одно: хунны пока еще не доросли до тех изощренных видов казни, изобретение которых — удел ума цивилизованного. Боль поселилась в сердце поэта, словно беды, разразившиеся две тысячи лет назад, персонально задели его самого и одна из сотен стрел, враз выпущенных в шаньюя Туманя, долетела сюда из глубины веков.
Погода была под стать настроению. Два дня безутешно моросил почти по-осеннему нудный дождь. Олег лежал в палатке и к столу не выходил. Его деликатно оставили в покое. Три раза в день появлялась Лариса: приносила то чай с бутербродами, то миску с чем-нибудь горячим. Сочувственно смотрела на Олега, нелюдимо кутающегося в ватную телогрейку, и, не говоря ни слова, удалялась.
„Нет, не могу… не могу! — Олег, болезненно морщась, прислушивался к шуршанию дождя о верх палатки. — Вот с Туманем у меня ладилось — хоть и вершил дела аж две тысячи лет назад, но понятен он, по-человечески понятен. Даже и сегодня выглядел бы вполне прилично — заведовал себе какой-нибудь скорняжной мастерской, был хорошим семьянином, покладистым приятелем, нормальным членом профсоюза. Нет, с Туманем все получилось прекрасно. А вот сынок его — это, как говорится, вопрос особый. Пытаться понять Модэ — все равно что трогать руками оголенные провода под током. В общем, увольте, граждане, увольте!..“
Но как Олег ни старался изгнать Модэ из своей памяти, тот снова и снова возникал перед ним на беспокойно пляшущем коне в тот пронзительно-багряный вечер, когда был убит белоснежный иноходец шаньюя Туманя.
Лишь к обеду третьего дня, увидев неожиданно родниковой чистоты голубые разрывы в грязной вате облаков, Олег вдруг ощутил, что ноющая боль в сердце начинает рассасываться, что Модэ, утопающий в кровавом закате, тревожит его все меньше и что появляется желание двигаться, желание промчаться с ветерком, наделать каких-нибудь веселых глупостей. Он засуетился, кое-как, на скорую руку, привел себя в порядок и, виновато прошмыгнув мимо безлюдного раскопа, зашагал в сторону тракта.