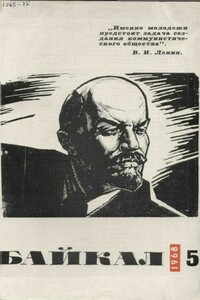Выслушав толмача, чужеземцы с любопытством посмотрели на юного заложника. Кидолу повернулся к Модэ и протянул ему золотую чашу:
— Я хочу, чтобы сегодня ты пил из нее!
Модэ принял, отпил и все с тем же безразличным видом продолжал слушать горделивые речи вождя юэчжей, но в затылке вдруг появилось такое ощущение, будто приставили холодное лезвие меча. Зачем старик позвал его? Может, хунны совершили-таки набег?
О чем-то говорили гости, улыбаясь и часто прикладывая руки к груди, и толмач, склонившись к уху князя, вполголоса переводил их слова. Кидолу, пригасив веками острый блеск глаз, слушал, одобрительно кивал. Когда толмач умолк, он повернулся к Модэ:
— Сын мой, узнал я, что в сердце твоем поселилась тоска по дому. Это опечалило меня. Но, возможно, тебе станет легче, если ты увидишь лица своих земляков, сын мой?
Кидолу повел рукой в глубину юрты. Драгоценные камни его многочисленных перстней замерцали вспышками зеленых, голубых и фиолетовых огней, словно предвещая нечто столь же яркое, радостное и искрящееся.
Подле стоявшего там низкого столика сейчас же выросли двое прислужников, помедлили и движением, преисполненным таинственного значения, сдернули с него шелковое покрывало. На сидящих мертвыми полузакрытыми глазами уставились шесть оскаленных голов в пятнах запекшейся крови.
Некоторое время царило потрясенное молчание, потом чужеземные гости зашептались, поглядывая то и дело на сына шаньюя. А тот вдруг встал, подошел к столику. Нагнувшись, некоторое время рассматривал отрубленные головы, затем выпрямился и исподлобья глянул на Кидолу.
— Благодарю, князь, мне стало легче, — медленно проговорил он. — Только почему они смеются?
Толмач машинально перевел, хотя делать этого, видимо, не следовало. Все, кто был в юрте, замерли — действительно, в смертном оскале, в криво застывших черных губах и веках они разглядели язвительные улыбки.
Кидолу резко махнул рукой, — столик накрыли шелком, подняли и вынесли из юрты.
— Я получил их в подарок от вождя одного племени, признающего наше старшинство, — князь небрежно шевельнул пальцами, и перстни угрюмо полыхнули алым. — Но он не знал, что мне нужны черепа знатных людей. Конечно, и эти пригодятся — я велю их хорошо выварить, сделать подобающую оправу и награжу отличившихся воинов.
Он улыбнулся гостям, злобно глянул на Модэ и крикнул:
— Эй, позовите молоденьких наложниц — пусть они услаждают наш взор и слух!..
Поздно ночью, когда хмельные чужеземцы, раскланиваясь и благодаря, уходили к себе, Кидолу остановил Модэ и, толкнув к нему одну из танцовщиц, криво усмехнулся:
— Она пойдет с тобой, дабы сегодняшняя твоя радость была полной, сын мой!..
…Он, кажется, начинал постигать, что должен чувствовать в тисках облавы зверь, который до последнего момента таится в кустах и вдруг, не вынеся ужаса ожидания, сам бросается под разящие стрелы охотников, хотя загонщики уже миновали его и опасности почти уже нет. Но — странное дело, — чувствуя это, он, лежа в плотной темноте, слыша и не слыша дыхание спящей рядом юной наложницы, думал почему-то о звездах, видных в дымке юрты. Старики говорят, что это — костры предков, горящие в далеких, никому не доступных кочевьях. Тогда один из этих крохотных мерцающих огоньков — конечно же — костер его матери. Она сидит у огня, как сиживала когда-то, живя здесь, на земле, и — кто знает? — быть может, поджидает его, своего единственного сына. Ждать ей остается уже мало. В тот миг, когда, падая, прошелестит над его головой меч палача, он окажется на небесном коне и помчится к юрте матери, сядет с ней у огня и, глядя сверху на землю, расскажет ей о предательстве отца, о страшном Сотэ, который, видимо, и отравил ее, о маленьком толстобрюхом сыне Мидаг, которому всегда доставалось все самое лучшее, о добром Бальгуре и заложничестве у юэчжей…
Вдруг снова донесся тот переливчатый заунывный вой, который Модэ слышал вечером, идя к Кидолу. По телу пробежал озноб — ему показалось, что это дух матери скитается в ночной степи, заранее оплакивая своего сына…
Перед рассветом он впал в ту болезненную дрему измученного человека, которая бывает порой более чуткой, чем бодрствование. Очнулся он даже не от звука, а от ощущения, что из темноты на него устремлен чей-то взгляд. Модэ не сделал ни одного движения и дышал по-прежнему сонно. Только рука его, крадучись, вползла за пазуху и легла на рукоять припрятанного там ножа. Но, видимо, тот, кто смотрел из темноты, обладал зрением ночной птицы.