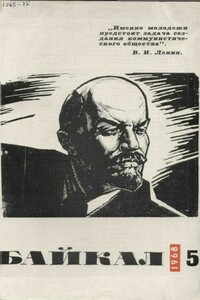— Ну, это само собой, — небрежно ответствовал Олег. — Творчество и обжорство — вещи несовместимые. Сравните японский фильм „Голый остров“ и какой-нибудь супер-боевик стоимостью в десятки миллионов долларов. В первом случае — сдержанность и художественное достоинство, а во втором — гигантомания и роскошная липа. О чем тут говорить!..
В это время снаружи послышался голос Ларисы:
— К вам можно?
Следом откинулась задубевшая от дождя входная пола, и в палатку вошла Лариса, весело говоря: — Давно проснулся? Чувствуешь себя как?
— Вполне нормально!
— Вот и молодец! Температуры нет? Прохладная ладонь легла ему на лоб. Совершенно неожиданно для себя Олег взял ее руку и благодарно прижал к губам. Помедлив, Лариса убрала ладонь, но так, словно мимолетно и ласково погладила его по щеке.
— Есть хочешь?
— Нет. Может быть, потом…
— Хорошо, — в голосе ее Олегу послышалась улыбка. — Пойдемте, Прокопий Павлович, ему надо отдыхать…
Олег остался один и, непонятно чему улыбаясь, долго слушал, как с размеренностью спокойного прибоя, широко и мягко накатывался ветер на вершины сосен, как на палатку, словно горошины из горсти, сыплются с веток капли дождевой влаги. Свежо, горьковато и бодряще пахло мокрой хвоей…
Он уже начинал задремывать, когда тоска, острая, граничащая с физической болью, внезапно сжала сердце и спугнула весь сон. Тоска эта была давно и хорошо ему знакома. Она рождалась в ту сумеречную пору, когда сознание еще не совсем спит, а сны уже начинают сниться. И, бывало, сколько раз он, счастливый и юный, оказывался, словно наяву, в каком-нибудь особенно дорогом для него мгновении прошлого, а разумом же с болью сознавал, что все ушло навсегда и безвозвратно, и истина эта, банальная в обычное время, в такие минуты оборачивалась для него мукой.
Никогда уже не увидеть отца, умершего пять лет назад…
Никогда не дано снова вернуться в беззаботное солнечное детство, когда казалось, что и дед с бабкой, и домик их, и проказливый толстый кот, и ласточки — все это было всегда и будет существовать вечно…
Никогда не повторится и та, только что привидевшаяся, далекая, полузабытая семнадцатая его весна, а ведь она была, была, — был разлит в воздухе отдающий холодком запах снеговых вод, была земля сырая и темная, но уже готовая выбросить первую траву, еще был — и это, пожалуй, самое памятное — тот мимолетный ветерок, и даже не ветерок, а первая и еще робкая струйка земного тепла, несущая почему-то тревогу, и томленье, и обещанье жизни бесконечной…
Сами собой всплыли в памяти строки Пушкина:
Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она…
Странно, как это он, Олег, считающий себя все же поэтом, не вдумывался в это, не сумел до сей поры понять, что обещанье жизни бесконечной не было обманом, а это он сам изменял ей, своей доверчивой и полной надежд молодости, расточая на пустяки лучшие свои годы. Неужели, чтобы осознать это, требовалось приехать в этот тихий уголок земли на границе леса и степи, и впитывать всей кожей солнечный зной и прохладу ночных дождей, и слушать монотонный треск кузнечиков и хвойные вздохи ветра, и ощутить живую боль в натруженных мышцах и умиротворяющую печаль древних могил…
Поняв, что ему не уснуть, Олег встал и вышел из палатки. Все уже разошлись, лишь одна Лариса, бывшая, сегодня дежурной, мыла у костра посуду.
— Зря встал, я уже собиралась принести тебе ужин в палатку, — Лариса ополоснула руки. — Кушай тогда здесь, раз уж пришел.
— Спасибо, я только чаю.
Взяв кружку, Олег пристроился у огня. Лариса села напротив.
Огонь удивительным образом объединяет людей — можно молчать, можно лишь изредка перебрасываться ничего не значащими словами, и все равно это будет беседа. Английское выражение: „Говорить — только портить беседу“ — родилось, наверно, у камина.
— Олег…
— Да?
— Правда, что ты — поэт?
— Считаюсь…
— Поэт… — задумчиво сказала она. — Среди моих друзей еще не было поэтов.
— У вас и сейчас их нет.
— Ну знаете ли!
— Нет-нет, я это в том смысле, что еще и сам не уверен, поэт ли я.
— Поэт, поэт, — успокоила его Лариса. — Хомутов тебя так и назвал, а он в этом понимает.