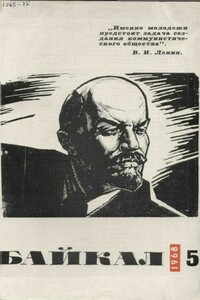Олег невидяще смотрел в зияющую яму раскопа. Он не совсем отчетливо представлял себе, что выходило из-под его пера в эти дни. Его лихорадило, он писал, как перед кораблекрушением, когда на счету каждая секунда. Он смутно помнил, что без конца перечеркивал написанное, рвал, начинал сначала. Трудно сказать, что получилось.
Тут около него упало нечто похожее на сосновую шишку. Олег вздрогнул, огляделся. Где-то рядом послышался тихий смех, шорох.
— Лариса? — хрипло спросил он.
Гибко отстраняясь от колючих веток, она подошла и, нагнувшись, заглянула ему в лицо.
— Испугался?
— Испугался, — честно признал он. — Сколько сейчас времени?
— Где-то начало четвертого.
— Ага, утра то есть, — заключил догадливый поэт. — Поздно… Вернее, рано. Почему не спишь? Может, серые мешки приснились?
— Нет, — Лариса улыбалась. — Почему-то — ты.
— Тоже серый? Тогда это страшный сон. Что может быть ужаснее серого поэта…
— Нет, ты был цветной. Как Арлекин.
— Это уже лучше, — Олег удовлетворенно вздохнул. — Ты знаешь, Лариса… Да ты сядь… Тебе не холодно? Знаешь, у меня такое чувство, будто я что-то натворил, а?
— Ну что за глупости ты говоришь! — рассмеялась она. — Ты что, не помнишь? Ты был такой смешной! Только не обижайся, это в хорошем смысле.
— Да уж…
— И суетился на раскопе, всем мешал… Потом тебя Хомутов прогнал. Иди, говорит, пиши свои шедевры.
Карлсон сказал, что у тебя, наверно, опять солнечный удар. Ты не заболел?
— Если у вас болит живот, — гнусавым голосом Дуремара заныл Олег, — если у вас сильная головная боль или стучит в ушах, я могу вам приставить за уши полдюжины превосходных пиявок…
— Слава богу, выздоровел! Олег…
— М-мм?
— А я ведь знала, что найду тебя здесь… — прошептала она, как-то странно глядя ему в глаза.
Он обнял ее и почувствовал, как она ответным движением послушно и доверчиво прижалась к нему всем телом.
Это было незнакомое ему до сих пор чувство: щемящая нежность, открытие в себе, в Ларисе и во всем окружающем какой-то удивительной хрупкости, почти беззащитности. Он слегка отстранился, глядя в ее глаза, раскрывшиеся ему навстречу — медленно, как раскрываются цветы. „Жалеть надо недолговечное“, — вспомнились ему слова Бальгура. И Олег стал бережно целовать эти глаза, губы, волосы и ощущал, как с каждым уходящим мгновением все роднее и ближе становятся они с Ларисой, словно два разобщенных до этого существа сливались в одно — гораздо более возвышенное, доброе и талантливое, чем каждый из них в отдельности…
Уже давно-давно что-то мешало ему, тревожило и словно бы звало. Он долго не мог догадаться, в чем дело, и ощущал из-за этого смутную досаду, но постепенно мир высветлился, и тогда поэт увидел, что прямо в глаза ему мерцает одинокая яркая звезда. Дрожащий венчик ее лучей жил какой-то своей маленькой беспокойной жизнью. И точно так же вздрагивали время от времени колкие ресницы Ларисы, лежавшей прильнув лицом к его щеке. Вдруг Лариса словно бы всхлипнула.
— Ты что? — тревожно спросил он.
— Хорошо… — прошептала она. — Как все хорошо! Лес. Ночное небо. И ты рядом. Наверно, никогда уже больше так не будет. Ни у тебя, ни у меня. Так может быть только один раз…
„Один раз… больше не будет… — мысленно повторил Олег и вспомнил, что перед самым ее приходом, отбросив последний листок, он ощутил то же самое. — Она права… Радость есть печаль… Да ведь это же кольцо даоса!..
Значит, Тумань все еще бродит где-то здесь. И остальные, конечно, тоже… И Модэ!“
Он вздрогнул и непроизвольно прижал к себе Ларису — мелькнула странная мысль, что вместе с яньчжи Модэ заодно погубил и Эльвиру, а теперь взор его, холодный, как у удава, устремился на Ларису.
— Ну что ты, — ласково сказал он, стараясь изо всех сил, чтобы не выдал голос. — Это просто так… Если не спишь, в конце ночи бывает такое настроение…
Лариса кивнула, и они снова надолго затихли, иногда только обмениваясь медленными благодарными поцелуями.
В вышине, огненным пером прочертив небосвод, мелькнула падучая звезда, и багрово-дымный след ее некоторое время держался в черном небе.
В памяти всплыли строки:
Скажи, звезда с крылами света,