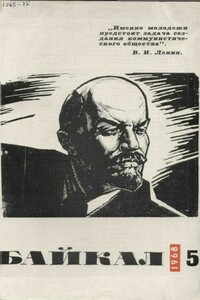Совсем немного оставалось до кочевья — лишь один невысокий перевал, поросший желтоствольным сосняком, в темной хвое которого холодно синели рваные клочья северного склона неба. Не доезжая до перевала, Бальгур дал знак остановиться у края леса. Поддерживаемый крепкими руками нукеров, он сошел на землю и, разминая затекшие ноги, сделал с десяток неуверенных шагов.
В вершинах сосен бродил свежий ветер, и в шуме его, мощном и безбрежном, слышались невнятные голоса, повествующие о печальном, возвышенном и вечном. В глубине леса куковала кукушка. Звуки ее голоса были подобны двойным каплям, падающим с высоты — огромным серебряным каплям, падающим с мягким звоном в чуткий серебряный сосуд.
Бальгур, медленно поворачивая голову, скользил глазами по тугим шелушащимся стволам, мимолетно облизанным некогда промчавшимся здесь пожаром, задержал взгляд на подлеске, сходном со взъерошенными детишками, настороженно застывшими подле родителей, и на морщинистом обветренном лице его проступила бледная улыбка. Он поднял голову и увидел далеко за качающимися вершинами белые облака — верно, духи вычесали своих небесных овец и вороха их шерсти разложили просушить на солнце; бывает, что шерсть попадается слишком грязная, поэтому духи моют, затем, сердито ворча, выжимают ее, и тогда здесь, на земле, идет дождь, гремит гром… Опустив взор, Бальгур долго наблюдал преисполненную таинственного смысла суету муравьев, разглядывал палую хвою, отливающую тусклым золотом, потом среди неяркого разнотравья привычно отыскал растение, которое издавна привлекало его. Покрытое беловатым пухом, с мелкими желтыми цветами, собранными в кисточку, сухое даже на вид, оно обладало одним странным свойством, вызывавшим у старого князя тревожное недоумение. Бальгур никогда не упускал случая взглянуть на него — весной, летом, осенью и даже зимой, разгребая снег, и в любое время года находил его неизменным, что удивляло и ободряло старого князя, словно вид сверстника, упрямо не поддающегося старческому увяданию.
„Да, это всего лишь маленькое растение, — уже не в первый раз подумалось Бальгуру. — И хоть не радует оно глаз красотой своей, но радует сердце, ибо бессмертно… Кто знает, может, и человек не уходит после кончины своей в небесную страну духов, а остается в этом мире, возрождается снова и снова, как этот упрямый цветок…“
Бальгур еще раз огляделся, придирчиво и зорко, и место ему понравилось… Все здесь было причастно вечности — небо с облаками, всегда зеленые сосны и даже маленькие цветы, упорно не желающие умирать. Ему показалось, что все эти долгие годы они ждали его, дождались наконец и теперь радушно звали присоединиться к ним.
Князь окликнул начальника нукеров, и когда тот приблизился, негромко сказал:
— Заметь это место — здесь будет последняя моя коновязь!..
После этого он направился к носилкам и стал уже укладываться в них, но тут вдруг невообразимой силы вихрь сорвал с места и небо, и землю, закружил их, смешал, уничтожил, так что ничего, уже не осталось в мире, кроме этих не признающих смерти цветов, которые спокойно покачивались на страшном ветру, погасившем даже солнце…
…Уже давно-давно что-то мешало ему, тревожило и словно бы звало. Он долго не мог догадаться, в чем дело, и ощущал из-за этого смутную досаду, но постепенно мир высветлился, и тогда князь увидел, что прямо в глаза ему мерцает одинокая яркая звезда. Дрожащий венчик ее лучей жил какой-то своей маленькой беспокойной жизнью. Звезда эта почему-то оказалась единственной в круглом дымоходном отверстии юрты, и неба вокруг нее было не совсем черным.
„Утро или вечер?“ — подумал Бальгур, и тут до него донеслись негромкие голоса. Он с трудом повернул голову и долго всматривался, прежде чем узнал своих тысячников. Все пятеро они сидели вокруг горящего очага и негромко о чем-то переговаривались. Увидев, что князь пришел в себя, тысячники встали и молча подошли к его ложу. Они были в боевых одеяниях и при оружии.
Бальгур чувствовал, что он что-то должен был сделать еще, но не мог вспомнить, и это его беспокоило.
— Войска… все здесь? — тихо спросил он.