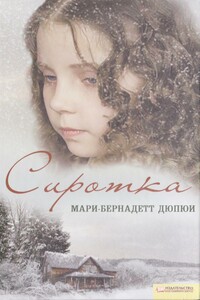Мари, краснея от стыда, прошептала:
— Прости меня! Я сама не знаю, что говорю. Эта проклятая война совсем свела меня с ума. Адриан, у меня жуткое предчувствие! Начались военные действия, и я уверена, что ужасы будут твориться и здесь, у нас! Поэтому мне страшно, так страшно!
Мари заплакала. Адриан обнял ее и сказал едва слышно:
— Мне тоже страшно. Но не надо бояться. Мы должны быть сильными, все мы…
Январь 1940 года
Мари удивилась, когда мать Мари-де-Гонзаг пригласила ее в свой кабинет. Она с грустью смотрела на пожилую монахиню. Решение, принятое матерью-настоятельницей, для Мари было равноценно чуть ли не предательству. Мать Мари-де-Гонзаг только что сообщила, что воспитанницы приюта больше не будут посещать общественную школу.
— Вы прекрасный преподаватель, Мари, но поймите, идет война, и я думаю, что наши воспитанницы будут в большей безопасности в стенах приюта. К тому же у нас появилось много новеньких, в том числе девочки, чьи отцы ушли на войну. Около двадцати пяти наших девочек посещают вашу школу. Классы перегружены. Мы приняли на работу учительницу, мадемуазель Бабразанж, она приехала из Корреза. У нее прекрасная репутация.
— Я очень привязалась к своим ученицам и буду по ним скучать, — вздохнула Мари. Она даже не пыталась скрыть слезы.
— Не расстраивайтесь так, дорогая! Вы будете приходить к нам в гости. Двери приюта всегда для вас открыты! У нас все вас очень любят, и вы это знаете. Давайте я познакомлю вас с мадемуазель Жанной!
Так Мари познакомилась с новой учительницей приюта. Вскоре женщины подружились. По вечерам, после окончания занятий, они часто беседовали, обмениваясь педагогическим опытом. Требовательная мадемуазель Жанна поставила перед воспитанницами приюта четкую задачу: каждая должна быть безупречной ученицей, чтобы обязательно сдать экзамены и получить свидетельство.
Общение с новой подругой доставляло Мари много радости, и все же ей с тяжелым сердцем, но пришлось смириться с тем, что со своими ученицами-сиротками она теперь виделась очень редко. Раньше девочки сами часто ходили за покупками для приюта, теперь же мать Мари-де-Гонзаг, опасаясь за их безопасность, разрешала покидать пределы старинного аббатства лишь дважды в неделю — в четверг и воскресенье, причем парами и под присмотром добросердечной «мамы Тере».
Маленькие сироты, как и прежде, спокойно жили под крылом у добрых монахинь…
Июнь 1940 года
Леони сидела в кресле, а Мари с Лизон, придвинув стулья к столу, лущили фасоль прошлогоднего урожая. Поль, месяц назад получивший права, повез Ману в Брив, где в кинотеатре шел американский фильм «Унесенные ветром», который собирал полные залы. Камилла устроилась рядом с сестрой и матерью. Она придумала себе увлекательное занятие: складывала из фасолин цветы и наклеивала их на лист бумаги.
— Давайте включим музыку! — вдруг предложила Лизон, которую угнетала повисшая в комнате тишина.
Леони в своем монашеском одеянии выглядела угрюмой. Нанетт время от времени опускала вязание на колени и поглядывала на гостью. Пожилая женщина спрашивала себя, что заставляет сестру Бландин так часто посещать дом доктора Меснье. Не укладывалось у нее в голове и то, что мать Мари-де-Гонзаг приняла в приют женщину, которая, никого не стесняясь, жила с мужчиной вне священных уз брака. Женщину такую необычную, странную…
Лизон включила радио, раздался треск. Потом весело заиграла скрипка.
— Получилось! Надеюсь, вам понравится.
И девушка, вздыхая, вернулась к работе. Мари ногой отбивала ритм, Нанетт снова увлеклась вязанием. Потом приемник опять затрещал, и из него полились первые аккорды песни. Женщины невольно прислушались.
«Ах, я так его любила! Нам лето голову вскружило…»
Леони вскрикнула. Голос певицы, слегка гнусавый, между тем выводил:
«Ах, я так его любила! Мой единственный, мой милый…»
Мари мечтательно улыбалась, вспоминая страстные поцелуи Адриана на заре их супружеской жизни. Резкий звук вернул ее с небес на землю: Леони вскочила и, заливаясь слезами, выбежала из комнаты. Лизон пробормотала, смутившись:
— Наверное, Леони поднялась ко мне в комнату. Мама, что с ней такое?