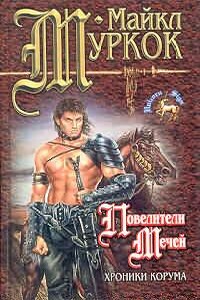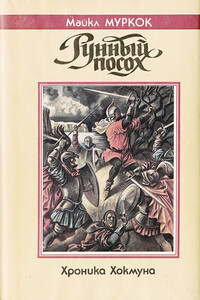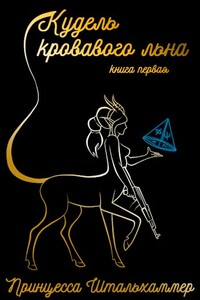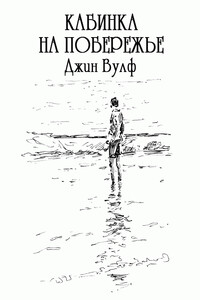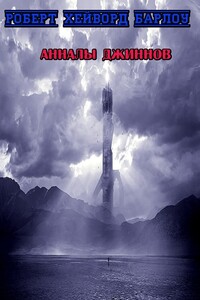Если немца моего воспитания ежедневно подвергать мучениям и унижениям, если постоянно угрожать ему смертью, если у него на глазах пытать и убивать невинных людей, он наверняка сбежит, если сумеет, сбежит в философию. Существует некий предел восприятия, за которым эмоции притупляются, сознание – или душа, как угодно – перестает реагировать на происходящее. Иначе выражаясь, привыкает к царящему вокруг ужасу. И человек становится этаким зомби.
Однако даже зомби способны чувствовать, способны улавливать эхо изначальных эмоций – у них случаются приступы благородства и мимолетные проявления сострадания. Тяжелее всего, впрочем, сохранить в себе ярость, которая одна придает сил. Большинство ее теряет. На вид – люди как люди: говорят, вспоминают, философствуют… Но не выказывают ни гнева, ни отчаяния. Равнодушные. Идеальные узники.
Мне в какой-то мере повезло: первым моим соседом по камере оказался журналист, чью фамилию я не раз встречал под статьями в берлинских газетах, Ганс Гелландер; а затем, по бюрократическому недосмотру (лагерь заполнялся быстро, и «естественная убыль» не покрывала все возраставшее количество новоприбывших), к нам подселили третьего – Эриха Фельдмана, более известного под псевдонимом Генри Гримм. Его обвинили в подрывной деятельности, и потому он удостоился не желтой звезды еврея, а красной «политической».
Три философствующих зомби… В камере имелось две койки, мы делили их по расписанию, а силы поддерживали чем придется; иногда нам доставляли передачи от иностранных волонтеров, продолжавших работать в Германии. Теснота возродила дух «окопного братства», столь памятный всем: ведь каждый из нас воевал. Снаружи, из «внешнего» лагеря доносились истошные вопли, треск автоматных очередей и иные звуки, жуткие и не поддающиеся описанию; а у нас было тихо и относительно спокойно.
Впрочем, покой был именно относительным. Я не мог забыться даже во сне, ибо стоило мне смежить глаза, как на меня сразу накидывались кошмарные сновидения. Белый заяц, петляющий по снежному полю, оставляющий за собой кровавый след… Драконы, мечи, огромные армии… Можно сказать, я превратился в законченного пациента для психиатров фрейдистского толка. Но психоз психозом, а для меня эти сны были куда реальнее тюремной яви.
Со временем в этих сновидениях я начал видеть самого себя. Некто очень похожий на небезызвестного Ульрика фон Бека стоял в тени и пристально глядел на меня кроваво-красными, рубиновыми глазами. В этих глазах таилась мудрость, о глубине которой я не мог и догадываться. Неужели это я в далеком будущем?
Почему-то мне казалось, что этот двойник – мой союзник, и в то же время я отчаянно его боялся.
Потом сны внезапно исчезли. Когда подходил мой черед занять койку, я засыпал спокойно. Надзиратели, среди которых были и штурмовики, и те, кто служил в замке в годы войны, старались соблюдать прежние правила обращения с узниками и относились к нам если не по-доброму, то достаточно снисходительно. Во всяком случае, нас изредка навещал врач, а иногда кого-то даже отпускали на побывку в семью.
Мы сознавали, что находимся в привилегированном положении. Наш лагерь считался, если можно так выразиться, одним из самых комфортабельных в стране. Он лишь намекал на грядущие ужасы Аушвица, Треблинки и Дахау, которые в ту пору еще не превратились в печально знаменитые «фабрики смерти»; по большому счету, и сами нацисты в те годы не замышляли Холокоста и прочих «прелестей», с которыми впоследствии их режим стал неразрывно связан.
Я и не догадывался, что первые преподанные мне уроки были только началом. Где-то через два месяца пребывания в лагере меня вызвал гауптштурмфюрер СА Ган, которого мы приучились бояться за глаза, особенно когда его сопровождали двое громил по прозвищу Фритци и Франци: первый – высоченный и худой, второй – низенький и толстый. Они напоминали карикатурных персонажей, Ган же выглядел как большинство офицеров СА – одутловатое лицо, усики щеточкой, курносый, с двойным подбородком, тяготеющим к перерастанию в тройной. Ему бы добавить шрамов на лице и обзавестись лексиконом, от которого покраснеют и грузчики, и он стал бы точной копией Эрнста Рема.