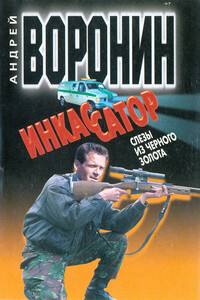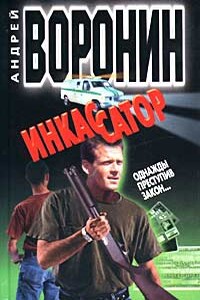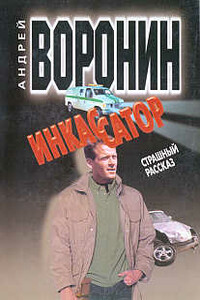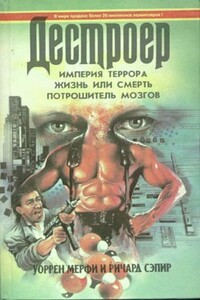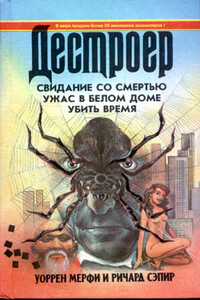Кастет почувствовал, что ему хочется громко, на весь дом, на всю Москву, завыть и так, с воем, очертя голову кинуться прочь из этой заваленной трупами квартиры. Остановила его только мысль о возможном чуде: умный, хитрый, изворотливый Шпала мог выжить, мог что-то рассказать, а может, даже посоветовать.
Пятясь, он вышел из гостиной и двинулся по ярко освещенному коридору в сторону кабинета, откуда по-прежнему слышалась негромкая фортепианная музыка. На ходу он оглянулся через плечо – ему показалось, что позади что-то шевельнулось. Но там никого не было, кроме распростертого на полу тела домработницы; Кастет скрипнул зубами и двинулся дальше.
Дойдя до двери туалета, он снова остановился. Дверь была слегка приоткрыта, позволяя ему увидеть, что в сортире, как и в остальных комнатах, горит свет. Кастет вздрогнул, увидев в двери на уровне своей груди аккуратную круглую дырку. Он толкнул дверь и тут же об этом пожалел: там, в туалете, сидела жена Шпалы, Ирина. Выпущенная сквозь дверь пуля пробила ей горло; Кастет успел заметить широко открытые глаза на неестественно бледном, обескровленном, запрокинутом кверху лице, тяжелый от крови шелковый халат, молочную белизну обнаженных бедер и упавший на пол тяжелый глянцевый каталог. В следующий миг его замутило от этого зрелища, и он поспешно закрыл дверь.
Шпала, как и следовало ожидать, находился у себя в кабинете. Здесь царил интимный полумрак; в углу, на специальной полочке, подмигивал и переливался цветными огнями музыкальный центр, на столе поблескивала бутылка французского коньяка. Шпала сидел в глубоком кожаном кресле за письменным столом свесив набок размозженную крупнокалиберной пулей голову. Руки его лежали на столе, правая сжимала никелированный браунинг. За спиной у Шпалы было занавешенное желтой портьерой окно; Кастет закусил губу, увидев на портьере огромную неровную кляксу, при таком освещении казавшуюся черной, как мазут. Ясно, это был никакой не мазут; Кастет понял, что Шпала ему уже ничего не скажет, и, пятясь, вышел из кабинета.
В коридоре ему стало совсем скверно. Кастет привалился плечом к стене и закрыл глаза, пережидая приступ дурноты. Его мутило со страшной, пугающей силой, все тело покрылось липкой холодной испариной, в ушах звенело, и хотелось вернуться в кабинет, вывернуть из мертвых пальцев Шполянского пистолет и застрелиться к чертовой матери, чтобы покончить с этим кошмаром раз и навсегда.
Тошнота и слабость никак не проходили. Кастет повернулся к стене спиной, прижался к ней лопатками и обессилено съехал по ней, опустившись на корточки. Глаза его по-прежнему были закрыты, сердце тяжело бухало где-то у самого горла. «Туча, – думал. Кастет, – Туча, Туча... Неужели все это твоя работа? Неужели это ты, братан? Что же они, суки, с тобой сотворили! Что же мы с тобой сделали, Туча... Уж лучше бы тогда посадили не тебя, а меня. Я ведь, как пионер, был к этому всегда готов – всю жизнь, лет, наверное, с четырнадцати. А меня так ни разу и не взяли – наверное, потому, что ты принял на себя все наши грехи, все причитающиеся на нашу долю беды. Этакий Христос местного значения, принесенный в жертву не ради всего человечества, а ради четверых дураков, которые того не стоили... Ты же был самым лучшим из нас, Даллас говорил правду, это не должно было случиться с тобой... Туча, Туча, что же ты наделал? Что же все мы натворили?»
Он открыл глаза. Минутная слабость прошла. Никакого Тучи больше не было – во всяком случае, того Тучи, которого они когда-то знали. Не было Тучи, и Далласа, и Шпалы больше не было; был одержимый жаждой мести маньяк, были Кастет с Косолапым, их жены и близкие, и был простой выбор: или – или. Или они, или этот кровавый подонок, окончательно утративший человеческий облик...
– Я тебя достану, падло, – сказал Кастет, оттолкнулся от стены и встал одним плавным, хорошо рассчитанным движением. – Не жить тебе, сука. Восемь лет на зоне – не причина, чтобы такое творить, понял?
Вместе со злостью вернулась способность соображать. Кастету вдруг стало интересно, по какой такой причине этот кровожадный отморозок не закончил свою надпись, почему вместо «До седьмого колена» написал только «До седьмого ко»? Или это ему просто почудилось с перепугу?