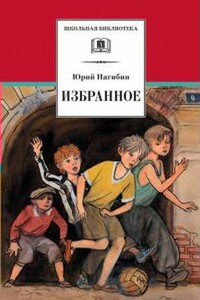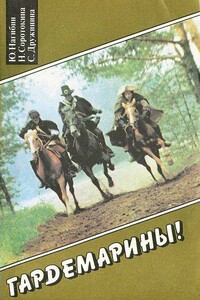Слишком жестокой стала моя жизнь. Жестокость с Леной, жестокость с Адой. Слабые люди — самые жестокие.
Лена в своей борьбе за меня способна на всё. В эту борьбу ею пущены не только сердце и мозг, но и вся физиология, лимфатическая система, железы внутренней секреции. Мне кажется, что она может распухнуть, как гофмановский король пиявок, или почернеть, родить жабу, или выплюнуть золотой. Она уже на грани чуда. Это не пустые слова, умудрилась же она похудеть на двадцать килограммов за полтора месяца! Умудрилась выпустить фонтан крови, услышать шепот сквозь три стены и сомнамбулически догадаться обо всем, что случилось в ее отсутствие. Разве может с этим бороться бедняга Ада, с ее жалким арсеналом простых человеческих чувств?
Нет ничего более ненужного на свете, чем любовь женщины, которую ты не любишь.
Только вера в то, что я сам чего‑то стою, мешала мне стать добрым. Я чувствую в себе те мягкие и упругие центры, которые вырабатывают доброту.
Некоторые вещи, которые в силу молодости, самоуверенности и легкомыслия казались мне не то литературщиной, не то наигрышем, начинают мною постигаться как душевная подлинность. «Мне противно идти домой» — сколько раз слышал я от разных людей эту фразу, даже сам говорил в пьяном кураже, но никогда не верил, что это можно сказать серьезно, потому что всегда больше всего любил свой дом. А вот сегодня я всей кровью, желудком, кишками испытал это чувство: мне противно идти в мой огаженный, опозоренный нечистотой, разнузданностью слов и жестов и непреходящей бедой дом.
Грязно, подло, вонюче уходит мое прошлое, мое детство.
81
История с Верой и Лёшкой навсегда унесла какую‑то опрятность из моей жизни. Всё так мерзко, гак смрадно обернулось, что уже нельзя жить по — старому.
Гадко — вот единственное чувство, какое мною сейчас владеет. Всё гадко, беспощадно гадко. Нельзя обнажать какие‑то вещи, что‑то надо знать новрозь, нельзя говорить об этом друг с другом, иначе наступает не животная — у тех всё чисто, — а сугубо человечья разнузданность.
Я совершенно не умею налаживать с людьми отношений: или я их от себя отшвыриваю, или — куда чаще — позволяю садиться себе на голову.
У теноров короткая жизнь, как у собак. Почувствовал сегодня, слушая Лемешева в «Травиате». Помню Джека: мы оба были щенками, когда познакомились, он еще писал в комнатах, я — только пошел в школу. Затем он начал меня стремительно обгонять. Он знал уже много жен, а я еще решал арифметические задачи, он был старцем, а я лишь поступил в институт.
Я впервые услышал Лемешева мальчиком лет одиннадцати, он пел в «Севильском цирюльнике». Тогда его еще не признавали старухи — завсегдатайки оперы, тогда еще не знали, как далеко пойдет красивый, маленький, худощавый, изящный человек с небольшим, но удивительным по тембру голосом. И вот, я только начинаю становиться чем‑то, а он уже кончился, он изжил себя, свою внешность, свой чудесный голос. Толстый, с подряблевшей кожей, почти безголосый, он еще пользуется у зрителей автоматическим успехом: хлопают, орут, надрываются, но это уже ничего не стоит, и он, наверное, сам знает это. Жизнь позади, отшумела, как дерево в окне поезда. Не знаю, заметил ли он свою жизнь, есть ли у него ощущение многих прожитых лет, мне его жизнь кажется коротенькой, как пёсий век: только что резвился щенком и уже хрипит старым, беззубым псом.[37]
Боюсь, что для меня «ренессанс» пришел слишком поздно. Я паразитирую на уже сделанном и уже почувствованном. Сейчас во мне лишь печаль и тщеславие. Тщеславие — куда менее животворящее чувство, чем страх.
Что значит вся история с Адой — до сих пор не знаю. Что‑то возрастное. Что‑то, не позволяющее тридцатипятилетнему человеку ходить в коротких штанишках, в которых его с грозным упорством заставляют ходить близкие.
Ценность происходящего в этой истории есть, она не пройдет даром. Но в конечном смысле, если таковой состоится, ценности не будет: нищая, взрослая жизнь семьянина.
Острый, как сердечный спазм, ужас, что лето уходит. Вот, что я люблю «до боли и до содроганья» — лето. Я так люблю его, столько связываю с ним планов, решений, что уже не могу отважиться ни на что, когда лето приходит. Любое решение шло бы в ущерб другому, не менее важному и прекрасному — лучше уж ничего не делать.