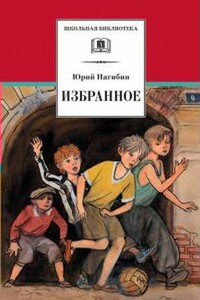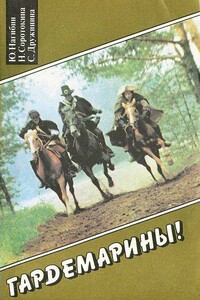Не писал я и о том единственном бое, в котором участвовал, и о полетах на бомбежку, где я скидывал не бомбы, а листовки и газету для войск противника, которую мы издавали, — обо всем этом есть в моих повестях и рассказах.
Вообще, этот дневник при всем его личностном характере не является ни в малейшей мере моим жизнеописанием. Я никогда не ставил себе такой цели, потому здесь никак не отражены многие важные — и радостные, и печальные — события моей жизни. Вы не найдете даже намека на скандал вокруг второго номера «Литературной Москвы», героями которого были Яшин, Нагибин и Жданов. Нас с Яшиным сразу взяли в оборот, его за «Рычаги», меня за «Свет в окне», а после, видимо, отдавая дань тринитарной системе, к нам присоединили Жданова с его талантливым, но вовсе безобидным рассказом. На двухдневный погром в Доме литераторов я просто не пошел, потому у меня нет живых впечатлений о разыгравшемся там шабаше, о мужестве В. Каверина и М. Алигер, защищавших и альманах, и нас — бедолаг, о подлости цепных псов партийного и писательского руководства.
Ничего нет и о трагическом вечере памяти Андрея Платонова, окончившемся тем, что по рукам пошел лист с требованием освободить узников совести. Впрочем, кончилось не этим, а исключением Юрия Карякина, делавшего доклад о Платонове, из партии, изгнанием отовсюду скульптора — писателя, друга Андрея Платоновича, Сучкова, строгим партийным выговором Борису Ямпольскому за текст его выступления и Межирову за то, что он этот текст прочел со сцены, — автор лежал на больничной койке, — а также внесением в черный список Ю. Казакова, выступавшего, и Ю. Нагибина, председательствовавшего на вечере. Мы с Юрой были неуязвимы по партийной линии, ибо не состояли «в рядах».
Нет здесь и ужасающей эпопеи со сценарием «Председателя», завершившейся общественным судом надо мною «за клевету на «маяка «Орловского» — прообраз героя фильма, и постигшим меня в результате всех преследований в сорок два года инфарктом. Но об этом я когда‑нибудь напишу документальную повесть.
Для других важных событий моей жизни не нашлось места в дневнике, ибо я знал: они станут материалом рассказа или повести.
Выше я что‑то сказал о радостном в моей жизни. Что имелось в виду, мне самому не слишком ясно. Выход моего первого собрания сочинений в издательстве «Художественная литература», стоивший мне нескольких лет жизни, встреча с Аллой?.. Много радости шло от леса, поля, реки, но об этом вроде бы достаточно много сказано. Остальные мои радости — избавление от несчастья.
Перепечатывая дневник для издания, я не добавил в нем ни строчки, но кое‑что изъял, щадя порой людей, не заслуживших доброго слова. В справедливости первого я убежден (изначальным выбором руководило подсознание — самый чистый источник), в справедливости второго — не очень. Почему скверные поступки позволительны, а разговор о них — табу? Если у тебя хватало мужества быть дурным в жизни, не пасуй перед своим изображением в литературе.
Итак, кому нужны мои записки с их отдаленностью от столбовой дороги нашей сияющей жизни? С их нытьем, слезами, злостью, иногда радостью, с их удивлением перед бытием, с их самокопанием? За пятьдесят пять лет профессиональной писательской работы я приобрел читателей, оставшихся мне верными и в наше неблагоприятное для литературы время. Мои книжки по — прежнему расходятся, независимо от того, дает ли издательство тираж в тридцать, пятьдесят, сто и более тысяч экземпляров. Значит, этим читателям я нужен, и вполне естественно, что им захочется увидеть подлинное лицо автора, остающееся в тени беллетристических ухищрений. Появились у меня и новые, довольно молодые читатели (сужу по письмам), им тем паче интересен будет незнакомый автор, ведь «Зимний дуб», который они проходили в четвертом классе, давно выветрился из сознания вместе с остальной школьной премудростью. Добавьте к этому недоброжелателей, их тоже скопилось предостаточно за долгие годы, и можно не сомневаться, что «Дневник» найдет спрос на книжном рынке.
Альфред де Мюссе, «второй величайший поэт Франции», как окрестил его Виктор Гюго, оставив тем самым первое место за собой, написал замечательную прозу «Исповедь сына века» — не событийную, а духовную историю молодого человека середины девятнадцатого столетия. Смешно было бы мне претендовать на столь глобальную задачу. Но Мои записки тоже принадлежат сыну века, нынешнего, идущего столь бесславно к своему завершению, и в этом их объективная, пусть незначительная, ценность, не связанная с моей личностью, ибо через меня, как и через каждого человека, отваживающегося жить, а не тлеть, говорить, а не молчать в тряпочку, отражается время, эпоха, хочешь ты того или нет.