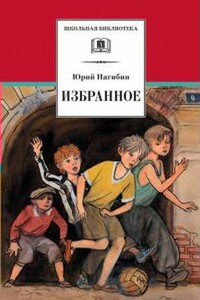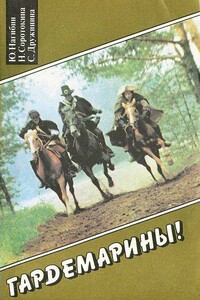Потом гроб заколотили и неуклюже, на талях, стали спускать в могилу. Его чуть не поставили на попа и лишь с трудом выровняли…
Ковалевский хорошо и трудолюбиво, как и всё, что он делал на похоронах, лопатой стал закапывать гроб. Я вспомнил, что сына Ковалевского зовут Иорик, и назойливо и банально мне в башку полезла пресловутая сцена из «Гамлета». И хотя всё было грустно, просто и серьезно, я с упрямством убеждал себя, что отец Иорика — вылитый шекспировский гробокопатель. Я с трудом удерживал в себе смех, а потом мне стало так больно за мою сухость, бедность и бездарность, что я, не разобрав поначалу истоков боли, решил, что это и есть то чувство, которого я столько времени безнадежно ждал, и мигом успокоился.
— А Фадеев тут есть? — спросил меня какой‑то толстоногий холуй из посторонних наблюдателей.
— Нет, — ответил я и самолюбиво добавил: — Твардовский есть.
— Игде? — спросил холуй.
— Вон тот, в синем пальто, курит.
Кстати о Твардовском. Один из лучших видов воспитанности — крестьянская воспитанность. К сожалению, она проявляется лишь в таких важных и крайних случаях, как рождение или смерть. Все присутствующие на похоронах евреи, а их было большинство, находились в смятении, когда надо снять, а когда одеть шляпу, можно ли двигаться, или надо стоять в скорбном безмолвии. Твардовский же во всех своих действиях был безукоризнен. Он точно вовремя обнажил голову, он надел шапку как раз тогда, когда это надо было сделать. Он подошел к гробу, когда стоять на месте было бы равнодушием к покойнику, он без всякого напряжения сохранял неподвижность соляного столпа, когда по народной традиции должен пролететь тихий ангел. Он даже закурил уместно — словно дав выход суровой мужской скорби.
Когда комья земли стали уже неслышно падать в могилу, к ограде продрался Арий Давыдович и неловким, бабьим жестом запустил в могилу комком земли. Его неловкий жест на миг обрел значительность символа: последний комок грязи, брошенный в Платонова.
Наглядевшись на эти самые пристойные, какие только могут быть похороны, я дал себе слово никогда не умирать…
На обратном пути я встретил Виноградскую, делавшую вид, что она подурнела только что — от горя.
Мы вместе поехали домой.
А дома я достал маленькую книжку Платонова, развернул «Железную старуху», прочел о том, что червяк «был небольшой, чистый и кроткий, наверное, детеныш еще, а может быть, уже худой старик», и заплакал…
Вчера проводил М.[31] Опять перрон, полутемный, невообразимо вонючий вагон, преувеличенно любезная просьба к соседям присмотреть за вещами.
Мы снова на платформе. Оказывается, когда провожаешь человека, которого жалко, последние минуты до отхода поезда не ползут, а промелькивают молнией.
На платформе жутко, как на большой дороге. Тусклый, печальный свет фонарей кажется светом месяца, люди — убийцами, а сами мы — обреченными на заклание.
В этот приезд М. я был чуть свободнее, чем прежде, больше говорил о себе, о своих чувствах, мыслях, но было в тоне что‑то искусственное, нарочитая самоуверенность, даже когда я говорил о своем страхе, сомнениях, постоянной тревоге. И опять меня мучает эта фальшь сухого, бедного, слабого сердца. Пусть меньше, чем в прежние годы, но перед его отъездом я снова испытал постыдную радость скорого освобождения. И без дураков было больно на вокзале, хотя несколько мешали Ленины слёзы, которые она обязательно хотела донести до мамы.
В М. сохранилась та широкая приимчивость и доброта, которых нет у нас. Мы все так носимся со своей злобой, так наслаждаемся взаимными обидами, так душевно охамели, что незаметно для самих себя превратились в мелких, узких людишек. Еженощный страх и ежедневные маленькие насилия над собой вытравили в нас то, что сохранил этот человек, прошедший дважды через то, чего мы так страшимся. Мы, располагающие взаимной поддержкой, относительной изолированностью существования, растеряли почти без остатка ту умную, свободную человечность, которую сохранил он, в своей жуткой провинциальной давильне, среди страшных свиных рыл.
А мы еще гордимся чем‑то перед ним. «Он — склеенный», — повторяем мы с восторгом слова нашей слабоумной старухи. Он‑то не склеенный, а цельный, а вот мы склеенные, да еще плохо, из остатков наших былых достоинств, нищего цинизма и липовой мудрости, самой тошной, пошлой мудрости страха. Мы обращаемся с ним с этаким превосходством людей сегодняшнего дня.