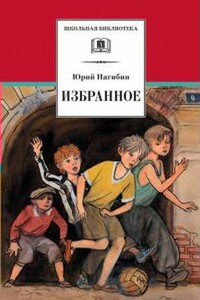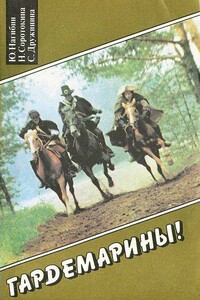Мужики в окопах грозились: «Вот зададим мы перцу бабам!» Приехали с войны, а силенок уж нет. Как бы и со мной так не случилось.
И еще — страх. Вот, пожалуй, самое неживотворное чув ство. Из всего могут родиться слова: из грязи, пороков, ошибок и запоздалых раскаяний, но только не из страха. Даже >из сильного, но короткого страха может что‑то возникнуть, но не из постоянного, ровного, душного, как перина. А этот год так насыщен страхом, что даже не такая жалкая душа, как у меня, и та бы съежилась.
Читаю Светония. Цезари отнюдь не являют собой исключительности. Самые обычные мещане, поставленные в условия полного раскрытия своих характеров, страстей, темпераментов, вожделений. Насколько сильно заложено в человеке стремление до конца развернуть свой характер, если однообразно — плачевные судьбы римских властителей никому не послужили предостережением. В том‑то и страх, что это самые обычные люди, которым до поры позволено все делать.
25 ноября 1949 г.
Я скажу родителям: довольно, я выполнил свой долг перед вами. До тридцати лет я пронес себя сквозь войну, сквозь страх, сквозь пьянство — это ли не подвиг самосохранения! Растерялось многое из бывшего во мне, но я сохранил то, что нужно вам: свое тело до последней клеточки и даже более тонкую видимость человека. Довольно, мне тридцать лет, и я имею право на самоуничтожение.
Родители — про себя — «он пугает, а нам не страшно».
10 декабря 1949 г.
Дикая ирония: весь день восхвалять «бога», а ночью трястись от страха перед «громом небесным».
Халтура заменила для меня водку. Она почти столь же успешно хотя и с большим вредом позволяет отделаться от себя. Если бы родные это поняли, они должны были бы повести такую же самоотверженную борьбу с моим пребыванием за письменным столом, как прежде с моим пребыванием за бутылкой. Ведь и то, и другое — разрушение личности. Только халтура — более убийственное. Приятная, наверное, у меня личность, если мне необходимо во что бы то ни стало от нее отделаться.
Ужас халтуры, — которого нет в пьянстве, дающем забытье и после того, как перестал пить, — особенно ощутим в те часы, когда лежишь в постели и не можешь заснуть. Это не фраза — страшно по — настоящему, пусто, щемяще страшно.
Но есть и другой взгляд на вещи. Стоит подумать, что бездарно, холодно, дрянно исписанные листки могут превратиться в чудесный кусок кожи на каучуке, так красиво облегающий ногу, или в кусок отличнейшей шерсти, в котором невольно начинаешь себя уважать, или в какую‑нибудь другую вещь из мягкой, теплой, матовой, блестящей, хрусткой, нежной или грубой материи, тогда перестают быть противными измаранные чернилами листки, хочется марать много, много.
И все‑таки я уверен, что при халтуре отмирают какие‑то нежнейшие и самые драгоценные клетки мозга. Устойчивые, когда мозг раскален настоящим святым усилием, они разом загнивают при решении одной из «каждодневных задач».
7 января 1951 г.
ПОХОРОНЫ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА
Сегодня хоронили Андрея Платонова. По дороге на кладбище, возле клуба, я прихватил Атарова, беседовавшего со смертью в козлином манто — Ниной Емельяновой. Я прервал их в тот момент, когда Емельянова говорила тоном, в котором лишь электронный микроскоп мог бы обнаружить фальшь:
— Я творчески чувствую этот материал…
— Тогда делайте! — благословил Атаров, которому нестрашен даже электронный микроскоп.
Наше рукопожатие и звучание первых слов были поневоле скорбными. Скорбь не была окрашена в личные тона, самая пошлая, традиционная скорбь, но все же Атаров испугался. Я это почувствовал по тому, как сразу огрубело его проникновенно — серьезное, чуть патетическое лицо.
Я имел бестактность сказать:
— Третья смерть на одной неделе.
— Почему третья? — спросил он резко.
— Митрофанов, Платонов, Кржижановский.
Он впервые слышал о смерти Кржижановского. Он жалел о том, что сел со мной в машину. Он стал похож на мясника. И вдруг лицо его опять стало глубоким, проникновенно — серьезным и патетическим:
— Это доказывает, какая у нас богатая литература, — сказал он, и — о, умный человек, — тут же внес тот оттенок либерального ворчания, без которого его слова были бы лишены искренности. — Мы сами, черт возьми, не знаем, какая У нас богатая литература!..