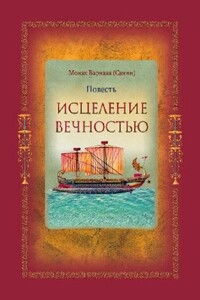́чки в ярких шалях на пышных плечах угощали всех желающих чаем. Чай был липовый, из чабреца, с листьями смородины и, конечно, очень душистый черный, который они каким-то только им известным способом пересушивали заново так, что заваривался он очень густо.
С ними соревновались бойкие городские разносчики заграничной, только вошедшей в моду газировки: «Мед-лимонад газес, от него черт на крышу залез. Редкое питьецо – заморское варевцо». Казачки смотрели на них свысока, зубоскалили и лениво лузгали семечки: «Говнецо ваше варевцо!» Ах, как хотелось мне попробовать этой шипучки, но после такого переругивания я не смела просить.
Наши все делали чинно. Освободив лошадей и подкинув им сена, неспешно шли в маленькую, красивую часовню у Сергиевского бульвара, близ биржи извозчиков. А я оставалась приглядывать за товаром, на самом же деле наслаждалась жизнью и свободой. Меня просто завораживала эта многообразная людская гуща среди изобилия плодов, рыбы, дичи. Глаз радовался, играл, ликовал.
Я безнаказанно глазела на пудовых астраханских, сказочных, как царь-рыба, осетров и душистую жирную сельдь в бочках. На распяленные туши баранов, с которых еще капала на землю, скатываясь в пыльные шарики, кровь. Тогда я еще не знала, что увижу, как капает и сворачивается в пыльные шарики кровь человеческая.
А фруктовые ряды с горами глянцевой черной и желтой черешни, золотисто-розовых бархатных персиков, янтарной айвы, лопающегося от сочности лилового инжира! Всем этим великолепием чаще всего торговали спесивые персияне. Обычно они степенно и отрешенно сидели на подстилках, скрестив ноги и перебирая темные четки. Говорили, что многие из них были разорившейся знатью из Тавриза, которой было стыдно искать работу на родине. Другие бежали от шариатского суда. В городе вообще было много грузин, скрывавшихся от кровников, и греков с армянами, спасавшихся от притеснения турок.
Среди этой толчеи продирались с коробами, полными всякого жуткого инструмента, бродячие цирюльники. Стулья они надевали себе на шею через отверстие спинки и поэтому походили на каких-то средневековых чудищ: «Бреем, стрижем бобриком-ежом. Лечим паршивых. Из лысых делаем плешивых».
Мальчишки продавали навозных червей, подлистиков и выползней. У них тоже была своя прибаутка: «Хочешь– рыбу лови, хочешь – в пироги клади». Мы так же приговаривали, когда собирали червей после дождя и гонялись друг за дружкой, норовя засунуть розового извивающегося червяка зазевавшемуся за воротник.
И конечно, продавцы сладостей и игрушек. Мне особенно нравился «тещин язык» – длинная скрученная трубочка-пищалка с перышком на конце. Я любила ей дразниться, а маму она почему-то приводила в мгновенную черную ярость. «Теща околела, язык продать велела». За это можно было схлопотать от матери по губам.
После торга наши приходили обедать, рассказывали станичные новости, разглядывали мои наряды. Мужчины просматривали газеты, женщины завороженно приникали к граммофону с роскошным, вертящимся во все стороны рупором. Мама, как слишком увеселительную и дорогую вещь, разрешала заводить его только для гостей. У нее хранилось под замком много купленных отцом дивных пластинок: «Цыганские песни в лицах», арии из оперетт Аркадьева, леденящая кровь в жилах баллада о вампирах «Волки» в исполнении баса Мариинского театра Касторского и, конечно, записи Шаляпина, Вавича и Тамары. Тамара – это не имя, а фамилия. Помню, как мы впервые в одиннадцатом году услышали «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии» в нежном, хватающем за душу исполнении Вавича.
Белеют кресты далеких героев прекрасных,
И прошлого тени кружатся вокруг,
Твердят нам о жертвах напрасных.
Средь будничной тьмы,
Житейской обыденной прозы
Забыть до сих пор мы не можем войны,
И льются горючие слезы.
Женщины в этом месте рыдали, не прячась, а мужчины отводили влажные глаза. Теперь они всякий раз просили поставить именно эту пластинку. Она, кстати, была односторонняя экстра-класса. Я только Ирине не ставила этот печальный вальс, ведь на сопках Маньчжурии остался ее отец. Они и так все глаза выплакали с матерью.