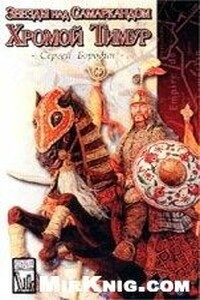— Поешь! — упрашивала Евфросинья Олега.
— Не неволь.
Они остались вдвоем. Евфросинья подсела к нему.
— Что ж теперь будет?
— Осень. Сошный оклад еще не собран. Соберем — опять соберемся с силами.
— Да с кого ж оклад собирать?
— Найдутся.
— Бежали сюды, куда ни глянь — дымы да зарева.
— Справимся. Не первый раз.
— То-то: не первый.
— А что?
— А то — Дмитрия жечь не решились. Он не один. Не решились бы и Рязань жечь, будь ты с Дмитрием.
— Супротив собак волка в помощь не кличут.
— Это что ж — он басурман, что ль?
Олег смолчал, только подумал: «Дмитрия жечь не решились!» — и стиснул пальцы. Но Евфросинья не уступала:
— Выходит, виноват медведь, что корову съел; виновата и корова, что в лес зашла.
— Никуда Рязань не зашла. На своем месте стоит.
— То-то, что не стоит.
Не верится, что тишина и безлюдие ныне там, где шумели вокруг люди, пели женщины и плакали дети.
— Поди, принеси испить. Не пускай никого.
— А ты б лег.
— Посижу.
В который уж раз она его в эту сторону клонит. Москвитянка! Нет тут Софрония, этот бы тоже стал твердить. Где Софроний?
«Вернусь, сведаю!»
Ведь впереди снова Рязань! К чему унывать! Он еще станет на ноги!
Евфросинья, вернувшись, увидела посветлевшее лицо мужа. Он попросил поесть.
Утром он вышел на погост, ожидая вестей. Федор пошел с ним вместе. Позади церкви, опускаясь к реке, зеленело кладбище, утыканное широкими крестами. Многие из крестов, расписанные желтыми и красными узорами, стояли нарядные, как бояре. По валу росли раскидистые старые ветлы, уже обдутые осенними ветрами. Вокруг валялись их хрупкие ветки, обломанные непогодой. И от иных тянулись в землю белые корни, а вверх поднимались нежные стебельки ростков. Так и народ рязанский, сорванный с высоких вершин, снова укоренится и поднимется.
Внизу текла заросшая лозняком привольная, тихая Цна. Стлались обмороженные луга, и лугами мчался в алом кожухе всадник вдаль, к Москве.
Олег смотрел, как, обогнув кладбище, Цна мирно втекает в широкое голубое течение Оки. Он поднял веточку ветлы и, разламывая ее в пальцах, пошел к церкви. У ограды встретил попа.
Поп еще издали благословлял князя и кланялся ласково.
— Вот, отче, — сказал Олег, — ракиту ветер сломил. Где ни падает, ростки дает, не гибнет. Таковы и мы.
— Древо сие у нас ветлой именуется. Негибко оно, потому и ломится.
И снова, отводя в сторону ласковые глаза, благословил князя.
Олег никогда не узнал, что всадник, мчавшийся по лугам к Москве, вез от попа письмо к Дмитрию, и поп в том письме писал:
«Рязанцы люди суровые, свирепые, высокоумные, гордые, чаятельные, вознесшись умом и возгордившись величием, помыслили в высокоумии своем, полуумные людища, как чудища. И господь низложил гордых: в злой сече рязанцы пали аки снопы, аки свиньи закланы быша, а там князь Олег едва спасся бегством с небольшою дружиной и семейством. Ныне на твоем, государь, погосте, что на Цне-реке, в моем худом домишке таятся: тако разумеют, что отныне от супостата единственно твоя земля твердо стоит».
Федор потянул за рукав Олега:
— Вон, отче, который двоих татар полонил!
Олег увидел высокого бледного человека с черной курчавой бородой, со щекой, залепленной зеленой жвачкой.
— Кто ты, человек?
Кирилл поклонился князю.
— За Рязань пострадал, княже.
— Сам-то рязан ли?
— Пришел было, да не судил бог рязаном стать.
— Отколь?
— С Москвы.
— А чего?
— Мало ль к тебе с Москвы сходят.
— И ты с тем же?
— И я.
— Он, отче, по-грецки разумеет, — встрял в разговор Федор.
— Отколь?
— Случилось в Цареграде жить.
— С чем?
— Каменных дел мастером.
Олегово лицо посветлело.
— Добро. Нужен мне будешь.
— Рад бы.
— Дело-то хорошо знаешь?
— На Москве башню клал, похваляли.
— А чего ж ушел?
— Награду не вынес.
— То твое дело. Не я взыщу.
— Благодарствую, княже.
— Ставил я Рязань крепкую. Сожгли. Поставил крепче того — дубовую. Сожгли. Пойдешь со мной, каменную станем ставить.
— Поставим, княже.
— А как же ты в лихе таком татар пленил?
— Не дивно, ежели сами в руки пали.
— Не видал таких, чтобы сами. Воины?
— Мамаевы люди. Один писец, другой ключник.
— Дивно вдвое.
— Оба русскую речь разумеют, а писец и в грецкой грамоте горазд.