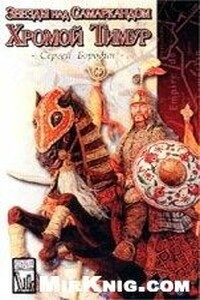— Ну, ежли, скажем, малость провинился?
— Берегись!
— Ух!
— Чем виноват-то?
— Упаси бог, это не я!
— А кто ж, коли не ты?
— А почем ты знаешь, что я?
— Вашего брата насквозь видно.
— Упаси бог. Засудит?
— Вконец.
— О, господи! Я ему все скажу, пущай как хочет. Как на духу, за это, может, смягчит?
— Непременно.
Наступило время суда.
Дмитрий сел на крыльцо, а перед крыльцом во дворе сели бояре, стала стража, начался опрос. Дмитрий молча слушал, словно был в стороне, но, ища правды и милости, истцы и ответчики обращали свои слова мимо бояр ко крыльцу. Дмитрий же слушал, ни словом не вступая в суд.
Разобрали два дела о дележе. Приступили к делу о потраве; жалобился молодой крестьянин, пришедший сюда на поселенье с рязанских земель.
— Здешние забижают. Ежели какой оброк, тягота, шлют меня без череду. А вон Есей зарится на мое поле. Я ж то поле разделал, оно нынче как перина хорошая, он и уговаривал: отдай да отдай, я, мол, тут исконный, а ты, мол, рязан, тебя, мол, ветром сюды придуло. Нет, говорю, не дам: покопай себе землю сам так, коли сил станет. А он мне горожу растворил да на овес моих же овец запустил. Я его не обидел, так чего ж он?
Есей был тот самый, что с воином говорил. Он распетушился и кинулся к судейскому столу.
— А видал он, как я его огород ломал? — Но вдруг взгляд его скользнул по крыльцу, и он, потупившись, тихо договорил: — Очень уж обидно было, вот я и разгородил.
Дмитрий спросил сверху:
— Чего обидно?
И все обернулись к нему. Есей, помолчав, ответил:
— Одно слово — виноват. Помилуй, государь.
Дмитрий спросил рязанца:
— Ты давно тут?
— Третий год.
— На три года прощаю те всякую дань и всякую тяготу. Стань сперва на ноги. Чего ж пристав смотрел, дал тебя в обиду? А что потравлено, то сосчитай. Есей тебе за то заплатит сполна и немедля — он тут исконный, найдет. А что злобствует да горожу ломает, за то дать Есею плетей, чтоб наперед помнил — мне все дети любы: и те, что в возрасте, и те, что новорожены, что исконные, что новожилы. Тако решено.
Воин, будто дорвался, ринулся на Есея и уволок его, приговаривая:
— Счастье твое, что раскаялся, а то б беда.
— Сам чую. Спасибо тебе.
Рязанец же, уходя следом, попрекал Есея:
— То-то и оно-то! А он: рязан да рязан. А какой я рязан, ежели сам князь Московский за меня стоит!
Приступили к делу звонаревой вдовы. Дело было тоже о потраве, а потравил ее огород сам пристав.
— Чисто татарва прошла! — визжала вдовушка. — Лук кверху пузом торчит. От капусты одни кочерыжки осталися, морковь теперь надо клещами тащить, всю ботву съел.
— Пристав? — спросил Дмитрий.
— А то кто ж! Бык здоровенный, все на мое вдовство зарится.
— Аз не зарюсь: ты глянь на себя! Кто на тебя позарится! Она на меня поклеп, государь, возвела за то, что не зарюсь.
Дмитрий усмехнулся. Любил такие речи.
— Пристав, я тебя о том не спрашивал. А городьба-то добрая ль?
— Да какая ж городьба при моем вдовстве… — женщина всхлипнула.
Пристав опять ввернул:
— В судебнике речется: огород ставится около поля — семь жердей добрых да два кола. Чтоб скот не мог вломиться, а овцы — пролезть. А около гумна, сиречь на овоще тож, огорожа должна стоять девяти жердей, добрая.
— А какая скотина-то у тебя? — обратился Дмитрий к вдове.
— А никакой у меня нет!
В это время во двор прискакал всадник, быстро прошел к крыльцу.
— Государь Дмитрий Иванович, весть есть, дозволь сказать.
— Иди в горницу.
Дмитрий вошел в избу и выслушал: корабль Митяя миновал крымские берега, ветер был попутен, и море кротко. Уже увидели берега Византии, как митрополит внезапно занемог и скончался.
— Не убит ли?
— Нет, сказывают, на теле следов нет.
— Не съел ли чего?
— У него из Кафы был повар. Не должно б быть. Фряги нам не супротивники. Хотели тело в Цареград везти, да фряги отговорили: нехорошо, мол, будто мертвец в митрополиты ставиться прибыл. Сгрузили в барку, погребли в Галате.
— Ступай.
Дмитрий побыл один: это был удар, но кем нанесен? Были у Митяя среди монахов враги, но неужто же и спутники были ему врагами?
«А боярин Кочевин куда смотрел? Ожирел, заспался. А я думал — книжен, велеречив, учен, доглядит. Вот и учен, а делу враг. Проморгал».