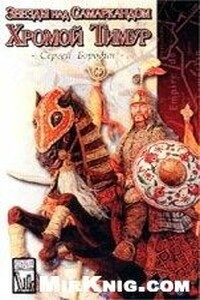Когда поели печеного мяса, легли, зарываясь в шкуры, спать. Их оставалось здесь четверо; Щапа с Тимошей Кирилл послал в Пронск за припасами, а семерых ватажников отпустил перед Рождеством в Рязань промышлять. Щап сам пошел под Кирилла и всю ватагу под него подвел: и силой, и разумом, и опытом не мог перед ним устоять, да и не тщился.
У стены долго ныл и ворочался Нил, ватажник, еще летом иссеченный татарским купцом. Рука у Нила ссохлась, и в промысел ходить стало непосильно.
— Ты что? Опять ломит? — спросил Кирилл.
— То стужа, то жар — так нешь можно?
— А чего ж делать-то?
— Уходить.
— Куда ж?
— А может, монастырь возьмет. Вклад дать есть чем.
— Грех замаливать?
— Где мой грех?
— А убивал.
— Чтоб меня не убили.
— А грабил?
— А кругом кто не грабит?
— Там так не ответишь.
— Там и не спросят. Вклад дам.
Внезапная мысль осенила Кирилла. Он привстал на своей медведине, сдвинул с плеч тулуп и прислушался.
Наверху, над снегом, текла обычная лесная ночь: глухо гудел лес, поскрипывали сторожкие волчьи шаги. Тихо и редко ступая, прокралась рысь. Поутру весь снег вокруг землянки бывал утоптан.
Дед Микейша спал, сжавшись, как кулачок. Лежал бледный, неслышно дыша, Андрейша. Кирилл снова закрыл глаза. «Монастырь! — думал Кирилл, — монастырь…»
Туда уходят от страха перед жизнью, чтоб стенами монастыря отгородиться от набегов врага, а паче того — от княжеских сборов, даней и пошлин, от полюдья, от многих больших и малых тягот, от всего того, что зовется жизнью смерда.
Кирилл ушел туда искать знаний и мудрости, но иноческая келья ему оказалась узка. Иные смирялись, приноравливались, отрекались от своего духа и от своей плоти, завидовали оставшимся в миру, ненавидели мирских и пресмыкались, зная, что труднее нести мирское бремя, нежели монастырский подвиг.
Часто мысль Кирилла обращалась к Сергию. Всюду о нем слышал, и теперь, среди тишины и тьмы, яснее встал перед ним Сергий.
Тих поступью, голосом, громок славой. Кто он? Каждое его слово передается из уст в уста. Не потому ли и говорит он так, чтобы передавали? Не затем ли расходятся его троицкие монахи по всей Руси? А в словах не столько от бога, сколько от Московского князя. Кто из них кому служит? Оба заодно! Было же в Нижнем, лет пятнадцать назад: заупрямился Нижегородский князь Борис, не захотел покориться Москве. Сергий из чащи троицких лесов явился в Нижний, затворил все церкви в городе, запретил богослужение и объявил народу: «Князь ваш Борис божьего дела не разумеет. Доколе не образумится, не будет вам ни милости божией, ни церковных треб!» Борис задумался: народ возроптал на него, воины от него отворачивались, как от богоотступника, еще день-другой, и народ разнесет во имя божие Борисовы терема, а самому Борису выпустят кишки наружу. Пришлось Борису Нижегородскому покориться, а спор шел не о малом: хан дал Борису ярлык на великое княжение и право сбирать хану дань со всей Руси — Борису, а не Дмитрию. И по Сергиеву слову Борис отказался от ярлыка.
Будь Сергий смиренным иноком, не печаловался бы о земных делах, не посмел бы закрыть церквей. Не инок, а воин, покрывшийся ветхой рясой! А Москва дала тогда Троице много земельных угодий, деревень, починков, страдных людей. Было за что!
Всю ночь не спалось.
Медленно раскрывался облик Сергия; сползла его ветхая ряса, в кротком голосе открывались непреклонные и жесткие слова. Чего неученый Дмитрий не может уразуметь, то разумеет Сергий, таясь в лесах.
«А если вера покорна узде, если не она ведет, а ею правят, — думал Кирилл, — чего же ради принимал я муки, ради чего смирялся? Чтоб выше и выше вставал Дмитрий?»
Всю ночь протекала мимо, волна за волной, вся быстротечная жизнь, вся долгая, многими событиями растянутая жизнь.
Вот он лежит, опрокинутый навзничь, в лесной берлоге, и множество людей по Руси лежит так, таясь по лесам либо отдыхая от работы в звериных норах, завернувшись в звериные шкуры, боясь говорить человеческие слова, опасаясь друг друга, одичалые, втоптанные в землю, из которой они растят для других хлеб и добро. Дед в Коломне сказал, что были времена, когда было иначе. А будут ли такие времена?