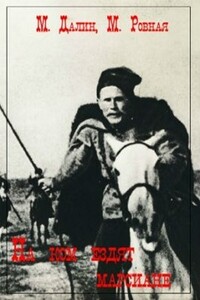– Так верен постулат Фарета для нашего мира или нет? – нетерпеливо спросил Ильегорский.
– Я не знаю, святой отец. Ведь в нашем мире есть предметы…
– И что же?
– И они притягивают друг друга на расстоянии, через пространство. Значит, они изгибают пространство… или…
Мальчик смущённо умолк.
Ильегорский похолодел.
– Ты великий путаник, – сказал он. – И с чего ты взял, что предметы притягивают друг друга?
– Теллур держит нас, – раб топнул. – Он держит и Альм, вынуждая его обращаться вокруг себя, а сам удерживается солнцем…
– Так, – проговорил Ильегорский упавшим голосом. – Ты ещё и еретик.
Мальчик с трудом опустился на колени.
– Я должен был сказать, – с безразличием смертельной усталости прошептал он. – Хоть кому-нибудь. Всё равно меня убьют. Не Вы, так виконт.
– Ты ошибся, – Ильегорский перевёл дыхание. – Эрмедориты – не Псы Господни. Мы служим Богу мудрому и милосердному; Богу, давшему человеку душу, чтобы любить, и разум, чтобы постигать; Богу, учившему: «Я – путь, и истина, и жизнь. Познай истину, и она сделает тебя свободным». Встань, сын мой. Ты носишь ошейник последний день. Я выкуплю тебя.
– Я свободен? – медленно переспросил Фьерито.
– Да, – твёрдо ответил Ильегорский.
Он ожидал, что мальчик, как и положено теллурийцу в такой ситуации, бросится целовать его сапоги. Но тот, крест-накрест обеими руками держась за шею, изучающе глядел на Ильегорского.
Точно пелена внезапно слетела с глаз Великого магистра. Лишь теперь он заметил достоинство, сквозившее в движениях подростка, его непринуждённую, несмотря на хромоту, осанку, правильную речь, чистую, хотя и ветхую, одежду, идеальную форму рук. Перед Ильегорским стоял высокородный сеньор.
– Назови мне своё имя, сын мой, – сказал он. – Не подобает человеку носить звериную кличку.
Раб с некоторым усилием выдернул иглу из стола и с учтивым поклоном протянул её Великому магистру:
– Я Антонио Ванор, граф Альтренский.
_ _ _
Из Альтрена выехали затемно. Эрмедориты с недоумением поглядывали на раба. Особено нервничал маршал; он ведал финансами Преберской провинции ордена и принимал близко к сердцу всё, связанное с куплей и продажей.
Ильегорский и сам спрашивал себя, зачем купил мальчишку. Всех не освободишь, не вылечишь, не накормишь. Делай, сжав зубы, своё дело – так ты принесёшь больше пользы этому народу.
Но что, если бы приора не прихватил ревматизм? Они проехали бы мимо Альтрена. И в эту минуту Антонио был бы уже мёртв. Гений он или сумасшедший? И что делать с ним? Подкормить, вылечить и выпустить в белый свет, где его ждут нищета, болезни, произвол и, рано или поздно, обвинение в ереси, как его отца? Или оставить в Эрмедоре и обречь на бесконечную приграничную войну с фанатиками-джаннаитами из сопредельной Марнайи?
Он оглянулся на своё новое приобретение. До чего же оно хилое! Впрочем, в седле Антонио держался на удивление хорошо. Под воротом плаща у него поблёскивал новый ошейник. Значит, когда Ильегорский видел во сне цветущие конские каштаны и Анну на пляже Труханова острова, этот ребёнок уже сидел в кузнице, вот так же, как сейчас, опустив голову; кузнец долго пилил старый ошейник, потом надел на цыплячью шею литой обруч с именем и гербом Великого магистра эрмедоритов Леона Корсидо, герцога Валисийского, забил в него раскалённые штыри, заклепал их и плеснул из ведра ледяной водой, чтобы заклёпки схватились намертво.
В первой же придорожной гостинице Ильегорский снял с мальчика ошейник. А вечером, уже в Эрмедоре, узнал о скоропостижной смерти виконта Нодредского.
Он вызвал к себе Антонио. Мальчишка успел отмыться и переодеться, голову держал высоко; теперь его вид не оставлял никаких сомнений в знатности его рода.
– Печальная весть дошла до меня, сын мой, – начал Ильегорский, в упор глядя на юного графа и одновременно стараясь прозондировать его сознание. Юный граф ответил на эту попытку таким хлёстким и мощным блоком, что у Ильегорского зазвенело в голове. – Минувшей ночью мессир Хесус Пателло скончался от удара. А бесценный ракурай, висевший над изголовьем его ложа, непостижимым образом исчез.
– Я скорблю, – безучастно отозвался Ванор.