Саския с безукоризненной благожелательностью подхватывает:
«— И стены у вас в кухне выкрашены в синий цвет…»
(Ездила за Урал на гастроли? С войны помнит?)
Феврония раскрывает рот:
Ну да, скажет она ей, — откуда. Выдержка!
Может показаться, что эта ледяная корректность — род издевательства. Но дело сложнее. Феврония н у ж н а Саскии… вернее, она нужна автору. Лилли Промет. Для чего? Чтобы понять Саскию… от противного? Еще бы не селиться ей с Февронией в одном номере — это ж и впрямь зеркало. Где у той право, у этой лево. Или так: где у той широко, у этой узко, где та раскрывает рот: «да» — эта сожмет губы: «нет». У той все безгранично — у этой все стены. Та размазана — эта собрана в комочек, в кулачок, прикрыта, заперта. Нет, тут не просто типологически выигрышный контраст, тут что-то поглубже, соотнесение мифологем, спор по философски важным вопросам, как это ни покажется странным для Февронии с ее четырьмя годами техникума, да и для Саскии с ее багажом удачливой актрисы. Тем не менее перед нами б ы т и й н о важный диалог душ, потому они и нуждаются друг в друге.
Вот прямой выход. У Февронии был брат; мать с трудом тянула семью, не выдержала, пошла в военкомат, попросила призвать парня до срока, парня призвали, через две недели началась война, через месяц пришла похоронка. Мать выла по ночам: была уверена, что в и н о в а т а в гибели сына. Феврония говорила ей: что ты убиваешься, разве ты могла все предвидеть?
Точная реакция: вина у Февронии распределяется на всех, на всю округу, на весь народ; в этой толще отдельный человек — «невиноватый», он растворен, распластан, размазан, спасен.
Саския, кристаллическая душа, думает иначе: мать не виновата д л я д р у г и х, и никто не может обвинить ее; но есть внутреннее чувство вины.
Феврония не понимает.
Не понимает индивидуальной ответственности! Погибать — так всем миром, отвечать — тоже всем миром.
Саския же несет крест именно индивидуальной ответственности. Недаром, стоя перед «Тайной вечерей», вглядывается в лица апостолов: ты предашь? ты? ты? ты?..
Мяртэн замечает:
«— Они все в один голос говорят, что ничего не знают».
Мейлер спрашивает:
«— И вы за это осуждаете их?
— Конечно. Незнание не уменьшает… вины».
Это говорит Мяртэн, и Саския, которая его любит, думает именно так, хотя он высказывается, а она молчит.
Сдержанность этой героини — род мучительства: надо все время помнить о сложнейших обертонах ее безукоризненной корректности.
«— Перестаньте, Мейлер! Несмотря ни на что, Феврония — личность».
Тонко сказано. Пронзительно до неожиданности: Саския-то тоже — личность, «несмотря ни на что», и прежде всего (если говорить о художественном условии ее существования) — несмотря на обескураживающее, неотвратимое, как стихия, и безличное, как рок, присутствие в ее мире — Февронии.
Я надеюсь, читатель догадывается, что в моем сопоставлении двух героинь нет следов национального самолюбия? Предвидя соответствующие обиды, Промет как раз и заметила: «В книге дурак не должен иметь национальности». Так вот: у меня нет обиды за «русский характер», увиденный в «Примавере» как бы сквозь заледенелые стекла, потому что ни обиды, ни упрека я не вижу в составе эмоций, которыми Промет наградила Саскию, свою любимую героиню. Там, как ни странно, другое. Там — потрясающее сочетание осознанного отчуждения и неосознанной надежды: острейший коктейль чувств, составленный с великолепным писательским расчетом, за которым стоит запредельное, «адское», тектоническое женское чутье.
Впрочем, критик Алла Марченко считает, что коктейль неудачен, и любимая героиня плохо отделена от автора. Вот рассуждение Марченко из ее знаменитой статьи «Для восполнения объема…» («Вопросы литературы», 1974, № 8):
«Можно вспомнить… споры, возникшие в связи с маленьким романом Лилли Промет «Примавера». Главный просчет автора этой книги… состоит в том, что ей не удалось сделать читательски ощутимым, то есть д о с т а т о ч н о к о н т р а с т н ы м свое истинное отношение к героине, этой неудавшейся Клеопатре, безнадежно закосневшей в элегантном эгоизме. В результате предложенную Саскией версию приняли за авторскую…»
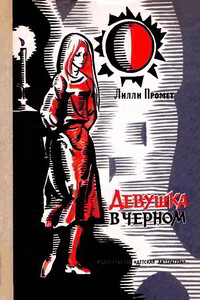

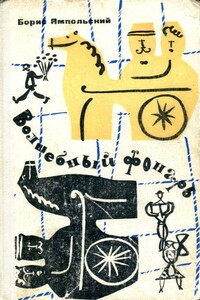
![Когда-то я скотину пас [сборник]](/uploads/books/images/c4/c4802de943fb89a35fb009b37289c29088cb308b.jpg)
