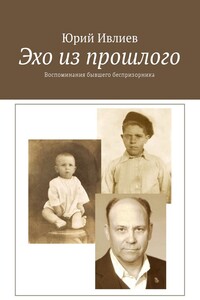Через некоторое время, 16 апреля, отец записывает:
«Сейчас под угрозой сердце. Вообще жду околеванца.
Подвел меня Петр. Прорубил окно, сел я у окошечка полюбоваться пейзажами, а теперь приходится отчаливать. Финляндия! Почему я в Финляндии? Конечно, первое тут — тяга к морю. Потом близость к Петербургу, издательствам, театрам, литераторам и прочее практическое.
Но была и смутная мысль: сесть на какой-то границе, в нейтральной, интернациональной и безбытной зоне. Москва, которую я только и знал в дни моего писательства (не говорю о короткой загранице), слишком густа по запаху и тянет на быт. Там нельзя написать ни «Жизни Человека», ни «Черных масок», ни другого, в чем есмь. Московский символизм притворный и проходит как корь. И близость Петербурга (люблю, уважаю, порою влюблен до мечты и страсти) была хороша, как близость целого символического арсенала: бери и возобновляйся. Москву я стал признавать (немного) только после Рима, когда вдруг почувствовал их родство. Тогда же и мысль пришла: а что, если я ошибаюсь и истинный символизм живет на Арбате, а в Петербурге только худосочие? Когда даже дураку ясно, что Петербург «нарочит» и прочее, то не подозрительно ли это?
Но это соображения позднейшие. А тогда верил и исповедовал Петроград — нет, не по Мережковскому, а по собственным смутным переживаниям, сну прекрасному, таинственному и неоконченному. И мое, повторяю. И была идея о постройке этого огромного дома в пустыне, как бы на краю, в преддверии земли Ханаанской: хотел 1) сделать красивую жизнь,2) сурово замкнуться для трагедии. Сесть не только вне классов, вне быта, но и вне жизни, чтобы отсюда, как мальчишка через чужой забор, бросать в нее камнями. Помню, что я так себе и представлялся: сижу на высокой горе и оттуда спускаю тяжелейшие камни в долину, и у меня борода, хламида, а не поддевка и стройность талии. Суровость и никаких послаблений. Будто не дом, а туча и оттуда грохоты.
Ничего не вышло…»
А вот еще одна запись, характерная для весны 1918 года:
«22 апреля, утро.
Жестоко болит голова. В природе парадный апрель: лучистое солнце, прохладный восточный ветер, полная желто-бурая река, ослепительные пятна снежных островков и мелей. Иногда, вместе с очаровательными запахами оттаявшей земли, ветер приносит гул стрельбы: где-то верстах в 15–20 жарят из пушек по двуногому. А ночью — прозевал — была стрельба в Териоках, ни причины, ни последствия коей неизвестны; и вообще путь к Петрограду, видимо, отрезан. Это благополучно решает вопрос о том, становиться ли нам беженцами или на авось. Будем на авось.
Если зимой война еще может показаться интересным развлечением, то весной она становится абсолютным идиотством.
Полночь.
Был сейчас на башне. Холодно луна, морской горизонт в серебре, свистит и бормочет ветер — какая пустыня! Только с этой башни видно, как мы торчим. Ходил слушать стрельбу — когда ужинали, несколько раз тупо и коротко стукнуло, не бум, а туп. Наскоро доел, но уже ничего не слышно. Слушал бормотание ветра, чувствовал особенное башенное одиночество и вспоминал, как все это строилось. Какими казались все эти дали, каким вдыхался воздух, как было почти все впереди. Нет, все не могу писать дальше, пока еще раз не скажу об этом башенном одиночестве, когда точно повисаешь между землей, людьми и луною. Уйдешь в комнаты, а душа еще долго живет этими свистами, тьмой и светами, призраками угрожающими. Так осенью, в октябре, ходил я на башню, и тогда было совсем черно, смутно, совсем угрожающе и ветер выл…»
Весна 1918 года была на редкость тяжелой — редкие теплые дни прерывались снегопадами, северным напористым ветром, ночными заморозками. Только после того, как очистился Финский залив от льда и, унесенные течением в открытое море, растаяли горбатые торосы и снежные поля, наш дом начал оттаивать, но вечная мерзлота все еще продолжала таиться в углах и под полом. 27 мая отец снова жалуется на погоду: «…Нет, терпенья не хватает! Надо терпеть людей, терпеть голод — и природу. Каторжный климат. После дождей и недолгого и несильного тепла ветер опять подул с проклятого севера, и последние три-четыре дня твердо установился резкий норд-ост. Ночью морозит, днем пронизывает и захватывает дыханье, сегодня весело поплясывали снежинки. Небо глубоко и сине, краски ярки и мертвы, исчезли запахи, умолкли птицы, остановились цветы, почки не развертываются, листик крохотный и не продвигается. Снова остыл дом, опять печи и камин, и все-таки трясешься. Первые дни я перемогал холод работой в саду, порой разогревшись от топора и лопаты, даже с удовольствием дышал свежим и чистым холодом. Но нынче, продрогши в постели, увидев насупившееся, совсем мерзлое небо — торжественно скис. И здоровье сразу ухудшается.