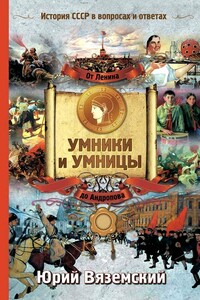И лебедь на меня ни разу не глянул, шествуя за хозяином.
Зная манеры своего наставника, я ушел в город, решив прийти в следующий раз.
Я пришел через три дня, в полдень. Рыбак сидел под орехом и смотрел на пруд. Я его приветствовал. И в этот раз он посмотрел на меня… Не знаю, как описать его взгляд, Луций. Так, глубоко задумавшись, иногда вдруг взглядывают в сторону, будто там, в той стороне, можно обнаружить недостающие звенья мысли. Или чувства, которые давно уже крутятся под сердцем, но постоянно ускользают и утекают… Я не поэт. Я не умею описывать. Но вспоминать я умею. И взгляд этот, долгий, пустой, задумчивый, я никогда не забуду…
На приветствие мое он, разумеется, не ответил. Я сел рядом. Некоторое время мы молча смотрели на воду в пруду. Потом Рыбак встал и ушел в дом. И больше оттуда не вышел.
В третий раз я пошел в деревню дней через десять. И на тропинке встретил Рыбака, который шел в город.
Я уступил ему дорогу и пошел следом.
В этот раз я с ним не здоровался.
Через некоторое время я спросил:
«Я что-то не так сделал?»
Рыбак молчал и не оборачивался.
Мы прошли стадии две, и я снова спросил:
«Ты больше не хочешь наставлять меня? Ты передумал?»
И вновь – ни слова в ответ.
А возле порта, когда можно было идти рядом и заглядывать ему в лицо, я спросил:
«Тебе запретили со мной общаться? Даже смотреть на меня запретили?… Или ты сам не хочешь?»
Представь себе – ни малейшей реакции…
В городском порту он сел на баркас, идущий в Генаву. Встал на палубе так, чтобы быть ко мне спиной.
Но стоило лодке отчалить от берега, он повернулся и стал смотреть на меня, глаза в глаза, долго, пристально, цепко. И в этом взгляде всё было: вина, жалость, нежность, просьба понять и простить… Он прощался со мной своим взглядом… И, прежде чем отвернуться, поднес палец к губам…
Больше я не ходил в деревню. И тамошних соловьев ранней весной не слушал.
Мы случайно встретились летом следующего года, за семь дней до июньских календ, то есть на третий день после нон, в которые мне исполнилось пятнадцать лет.
Встретились в городе, на форуме, возле базилики. Он шел мне навстречу и улыбался. Я остановился и приветствовал его на гельветском наречии.
«Здравствуй, Луций», – сказал он и прошел мимо.
Потом осенью, в начале сентября, мы встретились возле Западных ворот и так же друг друга приветствовали…
Я ни о чем не жалел.
Скажу более: мне уже не хотелось встречаться с этим странным и, как может показаться, довольно жестоким человеком.
Зачем? Ведь не друидом мне стать в самом деле!
Запоздалое детство мое окончилось – меня от него очистили, и оно… как это там?… оно не цепляло больше за ребра.
От тени отца меня тоже освободили – и она перестала давить на затылок.
… Лусена? Она, чуткая и заботливая, по-прежнему была рядом… Но я перестал заикаться…
Одним словом, листья высохли и уплыли…
Но, похоже, стоило тщательно вспоминать и перепросматривать.
Хотя бы из-за этой старой колдуньи.
XVI. Ты только не смейся, Луций. Ныне ее бред мне уже не кажется таким безумным, каким казался в четырнадцать моих лет, возле гельветского кладбища, ночью при серой луне.
Начать с того, что род Понтиев, как мне удалось выяснить, действительно ведет свое начало от некоего самнитского царя-звездочета, которого, по одной из версий, звали чуть ли не Атием. Одной из его жен – у древних самнитских царей их было, как правило, несколько – женой его, я говорю, была какая-то рабыня, имени которой сейчас никто уже и не вспомнит.
Далее. Если я, Луций Понтий Пилат, чрезвычайный и полномочный префект божественного римского императора Тиберия, близкий соратник и преданный товарищ могущественного Луция Элия Сеяна, если я, дальний потомок короля-звездочета и рабыни, прикажу в подчиненной мне провинции назвать какую-нибудь из пыльных горок моим славным именем… Полагаю, что назовут. И многие прихлебатели кинутся называть радостно и благодарно… Славы у меня уже сейчас достаточно. Особенно если вспомнить, что двадцать лет назад я был жалким заикой, сыном «предателя отечества» и пасынком бывшей иберийской рабыни… И кто знает, какая слава ждет меня впереди?…