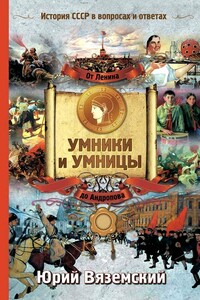Тут сначала за стеной словно звякнула цепью, зевнула и вздохнула собака.
А потом, глядя в мою сторону, Пила заговорила.
(Говорила она на таком четком и ясном гельветском языке, что я понимал почти каждое слово. Так что весь разговор с самого начала могу передать тебе в точности.)
Голос у старухи стал теперь высоким и девичьим.
«Ты мне наврал, бельг. Он совершенно не заикается», – сказала она.
«Я не наврал. Я сразу предупредил, что я его вылечил», – возразил Рыбак.
«Вы, мужчины, всегда врете», – будто не слыша возражения, сказала Пила.
Тут за стеной снова звякнула цепь. А старуха девичьим голосом произнесла:
«Скажи ему, что боги его хорошо охраняют. Несколько раз спасли от верной смерти».
«Он хорошо понимает по-гельветски. Ему не надо переводить», – ответил Рыбак.
«Переводи ему мои слова, чтобы он тоже знал», – будто не слыша, продолжала Пила: – Потолок должен был упасть на его голову. Но рабыня отодвинула постель… Потом косточкой мог подавиться. Но какое-то животное – козел или хряк – толкнуло его в спину. И косточка выпала…»
Я подозрительно покосился на Рыбака – ведь я, как ты помнишь, рассказывал ему об этих происшествиях. Но мой наставник быстро покачал головой и предостерегающе поднес к губам палец.
«Потом отчим хотел его убить. Но мачеха не дала… Потом конь понес. Но Эпона вмешалась, и конь не сбросил… Потом на войне, на которой отчим погиб, его спасли от солдата, который собирался оторвать ему голову и сделать из нее кубок для питья…»
Я слушал, все больше удивляясь, потому что о трех последних случаях я ни словом не обмолвился Рыбаку.
Но тут Рыбак возразил Пиле и сказал:
«Ты что-то недоглядела, Пила. На войне у него погиб родной отец, а не отчим».
И снова, будто не расслышав, старуха подытожила:
«Да, пять раз спасали. И, думаю, дальше тоже будут спасать. Потому что берегут его. Нужен он им для чего-то… Ты всё ему переводишь, бельг?»
Рыбак молча кивнул.
А Пила сказала:
«Давай теперь поглядим на его родителей».
И пустыми своими глазницами уставилась на меня. А потом сказала:
«Нет, так мне не видно. Возьми полено и положи в огонь».
У северной стены лежала аккуратная поленница. Рыбак подошел к ней и взял верхнее полено.
«Не то берешь, – тут же сказала Пила. – Возьми из нижнего ряда».
Рыбак принялся осторожно извлекать нижнее полено. И – веришь ли, Луций? – едва он прикоснулся к тому полену, мне сразу стало не по себе. Как будто чья-то невидимая рука проникла мне в живот, ухватила за желудок и стиснула.
«Бережней вынимай. Смотри, не развали мне поленницу», – велела Пила.
Когда же Рыбак вынул полено и положил его в огонь, в животе у меня отпустило. Но в груди, под сердцем, родилось жжение, и будто стон вырвался и вылетел у меня из горла, хотя на самом деле я не издал ни звука.
«Не давай ему долго гореть, – высоким голосом продолжала командовать Пила: – Как только появится первый уголек… Вот, целых два появились. Вынимай полено… Левый отломи…»
Рыбак резким движением пальцев отщелкнул от полена горящий уголек, и тот упал на землю.
«Пусть он возьмет, – руководила старуха, глядя на меня пустыми глазницами. – Рукой пусть возьмет и остудит».
Я схватил уголек и тут же его выронил, настолько он был горячим.
А Пила произнесла первую фразу, которую я не понял.
Рыбак заметил и быстро перевел:
«Она говорит, что прошлое всегда жжется. Особенно то прошлое, которое тщательно скрываешь от других и от себя».
Я снова схватил уголек и стал на него дуть, перебрасывать из руки в руку.
Скоро уголек перестал жечься, и его можно было зажать в кулаке.
А Пила, словно увидев, сказала:
«Закрой окно. И посади его рядом со мной».
Рыбак тем же куском торфа – похоже, это был все-таки торф – заткнул отверстие в восточной стене. Потом от шкафа принес маленькую табуретку и усадил меня на нее, напротив безглазой женщины.
«Пусть даст мне уголек», – девичьим голоском велела Пила и протянула правую руку. У нее была узкая нежная ладонь с длинными и тонкими пальцами.
Осторожно передавая уголек, я старался не коснуться этой ладони, почему-то ожидая, что она будет неприятно холодной. Но все-таки коснулся и почувствовал, что рука у нее очень горячая.