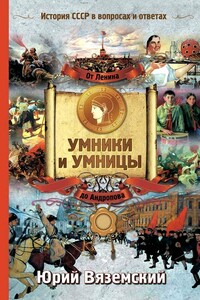Тут рыбак снова сердито и хрипло заговорил со мной на своем непонятном языке. А затем спокойно сказал по-латыни:
«Не ври. Мне врать не надо. Всё знаю. Ты не немой и можешь говорить».
«Я… Я с-с… Я с-си…», – от волнения я не мог выговорить и самой простой фразы.
«Т-т… з-з-з… ч-ч-чт…, – сперва передразнил меня рыбак. А потом сердито спросил: – Заика, что ли?»
Я кивнул и попытался поднять глаза, но, наткнувшись на острый взгляд, снова потупился.
Рыбак же опять заговорил на своем языке, а потом, будто переводя свою речь, сказал:
«Ну и заикайся у себя в городе. А сюда зачем ходишь? Гельветы не терпят заик. Гельветы любят плавную и красивую речь. А ты говоришь подло и грязно. Нечистый ты для гельветов. Неужели не ясно?»
«П-п-прости», – тихо сказал я, повернулся и побежал. А мне вдогонку рыбак закричал что-то на галльском языке, в котором я не мог разобрать ни единого слова.
Бежал я быстро, не останавливаясь, не переводя духа. Бежал в сторону города и остановился лишь тогда, когда оказался перед нашим домом.
Ты думаешь: я обиделся или оскорбился? Нет, Луций, ровным счетом наоборот! Мне тогда показалось, что это я своим притворством и скрываемым заиканием обидел и сурового рыбака, и его взъерошенного лебедя, и всю гельветскую деревню, к которой я так привязался, и жители которой встречали меня с таким теплым радушием. Так воры, наверное, бегут с места преступления, когда их застигли, разоблачили, но не успели схватить… Трудно описать это ощущение. Потому что, честно говоря, чрезмерная совестливость и тем более желание самоуничижаться никогда мне не были свойственны…
Но то, что ждало меня в доме Гая Коризия, еще труднее поддается описанию!.. Но вспомнить придется…
VIII. Сначала я увидел Диада, который, вместо того чтобы быть в лавке, сидел на пороге в прихожей и дремал.
Не желая будить его и подвергаться ненужным расспросам, я неслышно проскользнул в атриум.
На первом этаже нашего дома, как ты помнишь, была всего одна комната, в которой жил хозяин – Коризий Кабалл. Двери у комнаты не было. Не было у нее также ни ширмы, ни занавеса, ибо хозяину было не от кого таиться, так как мы с Лусеной жили на втором этаже, Диад ночевал в лавке, а Фер – в сарайчике с лошадьми, в ящике над стойлами, доверху набитом соломой.
Чуть ли не половину хозяйской комнаты занимало широкое ложе. И на этом ложе теперь головой ко мне лежала совершенно голая Лусена. А поверх нее, задрав тунику, встав на колени, ноги Лусены положив к себе на бедра и крепко держась за них, закинув назад голову, закрыв глаза и оскалив зубы, хрипло и часто дыша, то ли постанывая, то ли вскрикивая, то ли хрюкая… Но меня потрясла Лусена! Голова у нее тоже была запрокинута, как будто она специально откинулась назад, чтобы не видеть терзавшего ее человека. Черты лица – совершенно безжизненные. Глаза – широко открытые и остекленелые. И этими невидящими, пустыми, мертвыми глазами она смотрела на меня, как я понял, пребывая в состоянии чувственного отупения…
Страшное зрелище! Тем более страшное, что от резких и грубых движений Кабалла тело Лусены ритмично ползало и ерзало по кровати, запрокинутая голова дергалась и встряхивалась, а взгляд при этих рывках оставался неподвижным, остекленело упертым в одну точку, как мне почудилось, – точно мне в горло!..
Я выбежал из атриума, споткнулся о дремавшего Диада и, наверно, упал бы, если б моментально проснувшийся раб не перехватил меня поперек туловища.
Со мной на руках Диад выбежал из дома на улицу, метнулся к озеру, пробежал с полстадии, а затем, поставив меня на землю, нагнувшись ко мне и крепко держа за плечи, захрипел-зашептал с лицом искаженным от ужаса:
«Видели?! Тебя видели?!.. Ну, откуда ты взялся?! Так рано!.. Запомни – я не спал! Ты зашел со двора!.. Понял, проклятый заика?! Говори, понял?!»
Я с трудом освободил правую руку и, размахнувшись, изо всех сил ударил Диада по лицу, попав ему в нос и в верхнюю губу.
Раб опустился на колени и, не вытирая выступившую кровь, молитвенно сложил руки.
«Умоляю тебя! Скажи, что пролез через кухню. Ну чего тебе стоит, гаденыш?!»