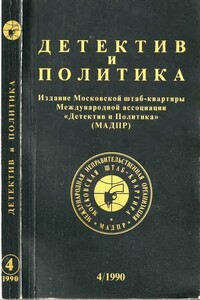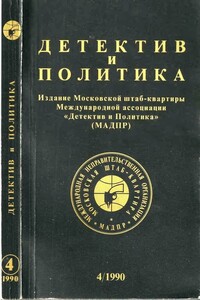— Я учитель русского языка в начальных классах женской школы, Максимушка…
— Ввели раздельное обучение?
— И формочки… Как у гимназистов…
Не понимая толком зачем, он сказал:
— Очень давно я провел ночь в Харбине с Сашей Вертинским… Он пел пронзительную песню: "И две ласточки, как гимназистки, провожают меня на концерт"…
— Я слыхала эту песню… Он часто выступает…
— Где?! В Москве?!
— Конечно, — Сашенька вытерла глаза ладошками. — Он же вернулся… Ему все простили…
— Ты увидишь Саню, — повторил Исаев. — Только будь молодцом, ладно?
— Максимушка, вам ничего про меня не говорили?
— Нет.
Сашенька глубоко, прерывисто вздохнула; Максим Максимович чувствовал, как тяжко ей переступить в себе что-то; бедненькая, она хочет мне признаться в том, чего не могло не случиться за четверть века разлуки; он понял, что обязан помочь ей:
— Любовь, что бы ни было с тобою, с кем бы тебя ни сводила жизнь, я буду любить тебя так же, как любил.
И случилось чудо: ее старческое лицо вдруг озарилось таким счастьем, такой пасхальной надеждой, что он наконец смог увидеть прежнюю Сашеньку, ту, которая жила в его памяти все эти годы.
— Вот сейчас ты стала неотразимо красивой, — сказал Исаев. — Такой, какой жила во мне все время нашей разлуки…
— Максимушка, — голос ее прервался, дрогнул; она резко откинулась, распрямила плечи, ему сразу же передалась ее струнная напряженность. — Любовь, — она улыбнулась через силу, — вы верите мне?
— Как себе…
— Вы верите, что я любила, люблю и буду вас любить, и умру с вашим именем в сердце?
— Эта фраза — бумеранг, — Исаев тоже улыбнулся через силу.
— Мы никогда не будем жить вместе, Максимушка… Я сделалась старухой… Вы же сохранили силу и молодость… Вы еще очень молодой, а я больше всего ненавижу принудительность — в чем бы то ни было… Если господь поможет, мы всегда будем друзьями… Я буду благодарно и счастливо любить вас… Это будет грязно, если я посмею разрешить вам быть подле меня… Вы проклянете жизнь, Максимушка… Она сделается невыносимой для вас… Равенство обязано быть первоосновой отношений… А еще я ненавижу, когда меня жалеют… Так вот, когда мне сказали, что вы погибли, а Санечка пропал без вести, я рухнула… Я запила, Максимушка… Я сделалась алкоголичкой… Да, да, настоящей алкоголичкой… И меня положили в клинику… И меня спас доктор Гелиович… А когда меня выписали, он переехал ко мне, на Фрунзенскую… Он был прописан у своей тетушки, а забрали его у меня на квартире… Через неделю ко мне пришли с обыском — при аресте обыска не делали, он же не прописан, и ордера не было… Меня попросили отдать все его записи и книги. Я ответила, что вещи его у тетушки, мне отдавать нечего… Меня попросили расписаться на каких-то бумагах, я расписалась, начался обыск, и в матраце, в Санечкиной комнате, нашли записные книжки, доллары, брошюры Троцкого, книгу Джона Рида, "Азбуку коммунизма" Бухарина… И меня арестовали… Как пособницу врага народа… Изменника родины… А вчера следователь сказал, что, если я попрошу вас выполнить то, чего от вас ждет командование, меня вышлют… И я смогу спокойно работать… А несчастного, очень доброго, но совершенно нелюбимого мною Гелиовича не расстреляют, а отправят в лагерь…
— Бедненькая ты моя, — прошептал Исаев, — любовь, Сашенька, нежность…
— И все твои ордена при обыске забрали… Мне же вручили их — орден Ленина и два Красных Знамени…
— Ты что-нибудь подписала на допросах, Сашенька?
Дверь камеры резко отворилась, вбежали два надзирателя, подхватили Сашеньку легко, как пушинку, и вынесли из камеры.
— Ничего не подписывай! — крикнул Исаев. — Слышишь?! Будет хуже! Терпи! Я помогу тебе! Держись!
Сергей Сергеевич, стоявший возле двери, заметил:
— Она в обмороке… Не кричите зазря, все равно не услышит… Ну что, пошли? А то без пшенки останетесь, время баланды…
9
Возле камеры, однако, стоял тот вальяжный, внутренне неподвижный мужчина, что сидел за столом-бюро в приемной Аркадия Аркадьевича.
— Добрый день, Всеволод Владимирович… Генерал приглашает вас пообедать. — Следователю, вытянувшемуся по стойке "смирно", сухо бросил: — Вы свободны.
Когда поднимались в лифте, мужчина поинтересовался: