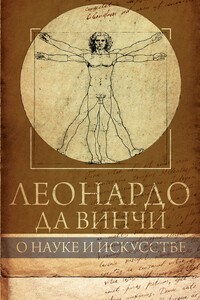— А что за пьянки? — грозно спросит Львов. — Откуда водка?
— Разбираемся, — вздохнет дежурный.
Кто ж из зэков признается, откуда водка? Нет, лучше пойманный в изоляторе отсидит, но сдать того, кто водяру ему пронес, — западло, нельзя.
— Передадим дело в прокуратуру, — на всякий случай говорит Львов.
Но кто ж за пьянку передаст? — это он так, чтобы разбирались, не бросали это дело.
— Что там с Синичкиным?
— Что, что, морда набита, наколку, говорит, поставил себе сам, — мрачно буркнет дежурный, — но заявление в прокуратуру он писать отказывается.
— Правильно, себе дороже, ему через три дня выходить.
Ну, расскажет дотошный майор Баранов, что, мол, раньше Цесаркаев защищал Синичкина и того не обижали. Но за это он, попадая вместе с Цесаркаевым на личное свидание, якобы закрывал глаза на то, что мать его принимала ночью этого самого защитника…
— Что значит — якобы? Так принимала или нет? — вопрошает начальник колонии.
Пожимают плечами офицеры — сие есть тайна.
Присуждает взволнованный начальник сладострастцу-кавказцу шесть месяцев, всем остальным упомянутым, кроме уходящего и неразгаданного Синичкина, — по десять суток изолятора.
— Нет, — говорит, — дайте-ка и этому Кочеткову шесть месяцев, он созрел для более весомых сроков.
Фиксируют все офицеры и клянутся бдеть денно и нощно за комнатой свиданий, что так легко становится местом столь мрачного разврата. А Баклановым займется Волков.
Похмурится Львов, почешет за ухом.
— Ну а с планом как?
— Как… как обычно: перевыполняем. А также заготавливаем картоху и овощи на зиму.
— Правильно, — смягчается тогда подполковник Львов, говорит мудрое: Готовь сани летом, а телегу зимой.
Все радостно кивают.
— А вот, — выскочит какой-нибудь вздорный лейтенантик, — вопиющий случай! Во вторую смену, в промзоне, в швейном цеху одели душевнобольного Стрижевского в женскую одежду!
— Как так в женскую одежду? — вскинется радетель моральных устоев Львов. А подать мне переодевших!
Все тут потихоньку посмеются, а лейтенант, возможно, растеряется, он-то уже свой суд свершил.
— Виновный, Чирков, что сшил ему женскую косынку и платье, уже в изоляторе! — доложит.
— Вот так… В женскую одежду… — успокоится Львов. — Правильно, изолятор. — Но тут вспомнит, может быть, и о стебанутом Стрижевском. — А чего ж этот Стрижевский у нас делает? Почему не отправлен в психбольницу?
Похмельный майор медслужбы тут как тут.
— Нет, — говорит, — разнарядки на этап на данного больного. Ждем… — и икает при этом майор медслужбы, — не первый месяц… Бывает, и больше года ожидаем.
— Да они ж за год его в Софи Лорен приоденут!
Посмеются офицеры шутке Петра Матвеевича.
Незадачливый лейтенант ввернет еще более глупое, но — факт…
— А вот Пеночкина застали за… В общем, к приводу швейной машинки приделал, понимаете, искусственную эту… Ну, влагалище, и…
— Какое искусственное? — не поймет подполковник.
— Да сам слепил из…
— Из гуммиарабика, — подскажет кто-то. Есть в цеху такой материал — черт знает для какой надобности он там, вполне возможно, для той самой.
Поморщится и вздохнет начальник колонии. Совсем плохо станет лейтенанту.
— Да, вот еще раз представляю тем, кто у нас недавно. Остальные-то хорошо его знают… — покажет Львов на героя моего повествования. — Медведев Василий Иванович, опытный товарищ, бывший замполит Зоны, он со всеми пятнадцатью отрядами справлялся, а вы сейчас мне ноете тут, что тяжело. Направляем его в шестой отряд, там он сейчас нужнее всего.
— Если доверите, не откажусь! — встанет, оглядит всех орлом старый служака, поведет перебитым крылом-рукой, еще в войну простреленной, плохо сгибающейся.
— Как не доверить? — любовно оглядит верного служаку своего начальник наш. — Родина оценила труд Василь Иваныча орденом, это ли не доверие?
Доверие-доверие, только второй орден на нас уж не заработаешь, мог бы и приусадебным хозяйством заняться или эти, как их… корни и сучья затейливые крученые собирать, тоже дело, больно их много в близлежащих лесах — корежит лес природа, будто мстит за что… Нет, поди-ка — снова к нам, затуманивать головенки зэкам байками о всеобщем благоденствии, что наступит, ежели они бросят озоровать-грабить… Ну, давай дерзай, Василь Иваныч, Мамочка наша, мать вашу…