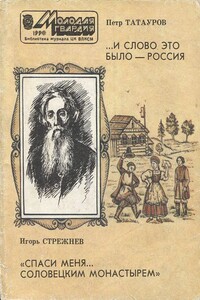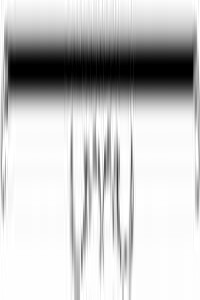А потом они все вместе смотрели громадный цветной телевизор. Надя впервые видела такой: изображение — трудно передать словами, просто хочется смотреть, и все.
Потом тетя Эля и Люда за чем-то вышли. И она, забывшись, опять начала было: «Дядя Егор…» Тут же в комнату вошла, будто ждала под дверью, Эльвира Борисовна и опять сказала: «Надя, милая, я тебя уже просила, зови его Георгий! Неужели это так трудно?» Надя снова покраснела. Дядя весело хмыкнул, потрепал ее по плечу и сказал: «В самом деле, Наденька, я от Егора как-то уж и отвык. Зови меня просто дядей Жорой».
В первый год учебы она была у них еще раза два. «Приветы передать, мать же пишет», — убеждала себя, не сознаваясь в смутной для себя самой причине, что ходит, пряча неловкость, чтобы лишний раз посмотреть, как живут родственники-москвичи, почувствовать и свою причастность к этой жизни, непонятно чем влекущей и так же непонятно чем отталкивающей.
Хотелось Наде и поближе сойтись с Людкой, тоже студенткой. Но разговор у них как-то не клеился. И Люда, чтобы заполнить пустоту, то включала японский магнитофон и начинала танцевать или сидела в кресле, закрыв глаза, слушала возбуждающие ритмы, слегка подрагивая пальчиками по валикам кресла, то опять принималась показывать новые наряды. Давала примерить и Наде. И она, рассматривая себя в зеркало то в темно-синем вечернем платье с золотистым шитьем на правом плече, то в невесомом и почти прозрачном голубом — для пляжа, даже и не завидовала этому богатству — что толку? И лишь ахала непритворно: как она во всем этом менялась!
Уходила с горьким чувством. А дядя, провожая, неизменно приглашал: не забывай, заходи!
Дома на первых летних каникулах она стала просить у отца деньги на джинсы. Отец отказывал. Тогда она вспомнила московскую двоюродную сестру как доказательство. «Людка, например, папочка, из джинсов не вылазит! Ясно?» — «И спит, поди-кось, в них?» — Отец улыбнулся так едко, что она взорвалась: «Да хватит тебе!» Отец стал серьезным: «У Людки-то твоей отец-то хоть знаешь кто?» — «Знаю!» — «Кто?» — «Ну, заместитель в каком-то главке или министерстве, я не знаю точно. Так что из этого? Теперь мне, выходит, и джинсы поносить нельзя?» — «Ну почему ж нельзя? Поносить, можно… — Отец снова улыбнулся. — Попроси у той же Людки да и поноси, сбей охотку…» Надя в первый момент даже не нашла, что сказать ему на это, лишь через несколько секунд выпалила: «Ты, пап, что думаешь, Москва — деревня, что ли?! Взял, как тут, на вечер платье у девчонок да в клуб пошел? Ну ты даешь! Это же Москва-а-а!!» — «Что Москва-Москва, я тоже понимаю, — сказал отец. — Да ведь и Людка, как ты говоришь, сестра тебе. Неужели ж по-сестрински на вечер штанов не даст?» Они долго смотрели друг на друга. Надя только и сказала: «Ну ты, па-апка…» — «Да, папка! — жестко повторил отец. — И запомни! Нам с матерью вдвоем два месяца подряд работать надо, чтобы получить столько, сколько Людкин отец в одну получку приносит. Так что Людка твоя для меня не пример! — Он помолчал и сказал спокойнее: — Мы и так тебя не обижаем. Вон мать опять приготовила на пальто, на всякую шурум-бурум… А штаны эти за сто пийсят… Ты же девка! Пойми, не в деньгах дело! Но зачем под мужика-то подделываться?.. Мне на эти ваши штаны смотреть тошно…» — «Не смотри! Тебя никто не заставляет!» — «Нет, дочка, на штаны не дам!»
Надя хлопнула дверью. А вечером, вернувшись от подружки, которой жаловалась на жадного «предка», услышала тот самый обрывок разговора. Открыла дверь в дом и поймала обрывок раздраженной отцовской фразы: «…не тесть, дак не видать бы скотине всего это, как собственных ушей!» — «Вы про что это?» — с любопытством бросила она с порога в комнату, где были родители. Там замолчали. Она вошла. «Вы о чем?» Мать, не глядя на нее, торопливо вышла в кухню, вскоре хлопнула дверью в сени. «Что притихли сразу?» — спросила она у отца. Он, насупившись, молча сидел у стола, ковырял потрескавшимися пальцами в мятой, с темными замаслинами пачке «Беломора», выуживал одну за другой полупустые папиросины, складывал в пепельницу. Наконец нашел целую. Прикурил, выпустил из ноздрей две голубоватые струи, буркнул: «Ничего, ничего…» — И отвернулся к окну. Надя хмыкнула и ушла в горницу. Но отцовская фраза запомнилась. Ей стало жаль мать.