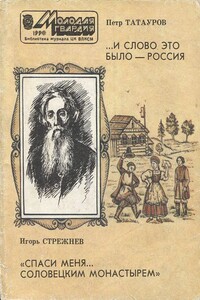Внутри у Нади кипит, она взглядывает на Ленку:
— Ну это уж вообще!
— Я же говорю — спятила, — негромко, но так, чтобы слышала и вахтерша, говорит Лена.
В быстром косом взгляде тети Клавы чувствуется желание сжечь их, испепелить, но она молчит и только сердито возит «лентяйкой» по влажно лоснящемуся кафелю.
Наконец путь свободен. Но переводов из дому, на которые втайне надеялись, в ящике нет, и девушки выходят на улицу, быстро шагают по морозно хрустящей дорожке к троллейбусной остановке. До метро едут «зайцами». Молчат. И лишь внимательно вглядываются в лица пассажиров, входящих на остановках: не контролер ли?
В полукруглом вестибюле станции «Университет» Лена смущенно просит:
— Дай мне хоть копеек двадцать на дорогу.
Надя открывает кошелек, достает металлический рубль и некоторое время держит его на раскрытой ладони, рассматривает:
— Юбилейный, Лен… Последний. А щас разменяем, и все…
— Надька! Хватит нюни пускать! Раньше думать и жалеть-то надо было… Когда праздновали!.. — Лена решительно берет в ладони рубль и идет к кассе.
На эскалаторе Лена стоит ступенькой ниже, положив голову ей на грудь. А она машинально скользит взглядом по фигурам людей, движущихся навстречу. Одежда разная, а лица одинаково непроницаемы, равнодушны. Они сплошным, непрерывным потоком плывут мимо, вверх, и редкое лицо задерживает взгляд, а если и задерживает, то все равно уплывает, как пейзаж за окном железнодорожного вагона: был и исчез навсегда…
Надя хватает Ленку за плечо, та вскидывает голову, смотрит удивленно.
— Да ты не на меня, ты туда смотри!
Лена поворачивается к ней спиной и сразу приветственно крутит ладошкой. Снизу к ним приближается «дрын» — так они с Леной называют между собой Серегу Коробкова, баскетбольного роста парня с их курса. Он наклонил голову и не видит их. Вот поравнялся. Перекрывая рокот эскалатора, Лена кричит:
— Коробков!
Серега вскидывает голову, и Лена мелко трет большой и указательный пальцы. Серега нервно крутит головой, потом высоко поднимает плечи, втягивает в них голову, выпячивает нижнюю губу и широко разводит руки.
Делать нечего, надо ехать…
Внизу, на станции, они расходятся. Их поезда идут в разные стороны: Лене — до «Юго-Западной», Наде — до «Проспекта Маркса». В вагоне она торопливо, чтобы никто не опередил, занимает одиночное сиденье в конце вагона, прячет подбородок в воротник пальто. С пересадкой — около часа езды…
Дядю Егора, когда она думает о нем, она всегда представляет не таким, какой он сейчас, а почему-то маленьким бойким мальчишкой: чумазым, с цыпками на руках, с царапинами на грязных коленках, торчащих из-под закатанных штанин не по росту широких брюк. Брюки перешиты из взрослых и держатся на широком солдатском ремне с одним «гвоздиком» в пряжке. Этот ремень до сих пор лежит в мамином сундуке.
…Тобол стремительно плетет длинные космы водорослей возле свай дощатого моста. Шестилетний мальчик и девочка постарше — по пояс в воде. Рыбачат. Таскают чебаков, нанизывают их за жабры на кордовые нитки, привязанные к поясам. Стараются наловить побольше: мамка на работе в совхозе, папка совсем недавно помер.
Вот мальчишке крупный попался, одной рукой он удочку тащит, другой к рыбе тянется — вдруг сорвется! Ползет под пяткой песчаный донный уступ, мальчишка удочкой неловко взмахивает и исчезает под водой. Девочка сразу ныряет за ним. Всплывают оба через несколько метров ниже по течению. Она тянет его на мелкое за руку, огребается одной рукой часто-часто, хорошо хоть, ноги до дна достают, а у мальчишки на шее зеленая, толщиной в палец, веревочка водорослины, как галстук, в струе полощется. Мальчишка судорожно кашляет, брызги рябят воду, белые точки уплывают, а вокруг них уж вскипают бурунчики — рыбы пробуют.
…Баба Груша прикрывает половиками грядки в огуречнике, чтобы утром иней рассаду не заморозил.
…Жаркий день. Она возле грядок копошится, собирает первый урожай: лук и редиску. Моет и укладывает пучки на дно корзинки, покрывает корзинку чистой тряпицей, идет на площадь возле церкви, садится там на толстый, не расколотый на дрова березовый комелек и раскладывает на тряпице зелень. Вдруг заезжие шофера купят? А ей все лишняя копейка. Соберется сколь-нибудь, вот и пошлет опять Гошке в Москву, в анститут этот: поступил ведь все же после десятилетки — башковитый! Вот мама к ней идет. А баба Груша сидит-посиживает. Белый платок на лоб низенько опустила. Жара. Смола из досок выступает. И нос у бабы Груши весь в поту, как в бисере. Жалко маме бабушку. Садится рядом на корточки, спрашивает: «Ну чё ты, мама, паришься тут? Нету же никого!» — «А как жо, Валя-матушка? Вот после паужны прикатят, да, может, и купит кто…»