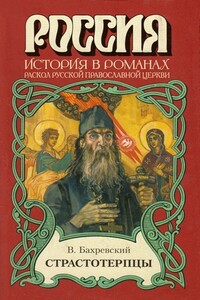Декабрьский воздух столицы насыщался враждой, как дымом тысяч печей, от коего мороз казался злее. И все искали виноватых — в скудости жизни, падении веры и патриотизма, в поражении. «Жидов государь в Россию не пускает, —твердили всезнающие москвичи, — а немцев призывает. Дозволил кирхи строить на соблазн посадским, и без того заражённым жидовствующей ересью...» И верно: из-за немецкого лукавства победоносная война с Ливонией переросла в соперничество со всем западным миром! Дальше: побитым ливонским немцам дали слободку на окраине Москвы, за Яузой. Отчего она называется Наливкой? Царь разрешил им гнать вино в любое время, спаивать столичных жителей. И священники подтверждали: всему виною наши грехи да немцы!
Иван Васильевич бывал в Наливке. Его и самого скорее раздражало, чем восхищало спокойное, без отдыха и срока, трудолюбие, домашняя опрятность, отскобленные, как половицы, мостки на улицах, неукоснительный порядок в чередовании работы, еды и сна. Богослужению — пресной утренней беседе пастора — немцы уделяли не больше часа. Труд, считавшийся подобием молитвы, давал им внутреннюю независимость и от духовной, и от мирской властей.
У немцев были деньги. С выгодной неизбежностью Иван Васильевич умел мириться. Но на него давил митрополит, ссылаясь на общественное мнение — священников, посадских. Очень больной, не чаявший дождаться Рождества, владыка держался на одной желчи, на раздражительных порывах исправить или наказать остающихся в этом мире. Настроение, не чуждое и самому Ивану Васильевичу. Правда, митрополит нашёл и дельный довод.
Кирха в Москве была, а католического костёла не было. Меж тем Шевригин привёз из Рима обнадёживающие вести. Папа пришлёт в Москву иезуита для примирения с королём. Именем Папы и императора тот надавит на Батория. За облегчение условий мира легат наверняка потребует открытия костёла, допуска иезуитов в Россию, признания униатов... Допустить этого нельзя ни в коем случае — всё едино, что жидов впустить. Легат сошлётся на кирху в Немецкой слободе.
У смертного одра митрополита Наливку приговорили к разорению. Дымным, зыбуче-морозным утром, когда и солнцу страшно карабкаться на небо, затянутое синим льдом с сиреневыми разводьями, сборный отряд детей боярских и стрельцов двинулся к Яузе. К ним прицепились охочие посадские, чьи глаза горели на чужое благополучие. «Лучшие люди» не вылезали из домов, и псов, спущенных на ночь, не сажали на цепи, зная, чем может кончиться погром. Но кому нечего терять, не предвкушали, потешив себя горячим винцом спозаранку.
Накатанная дорога через Яузу была уставлена ёлками, чтобы не сбиться в непогоду. Под самой слободой, давно затеплившей трудовые огоньки, на льду было расчищено ристалище для немецкой, голландской забавы: на ноги надевали железные полоски и бегали кругами, аки бес от ладана. На всё у хитрованов находилось время, коего вечно не хватало замотанным москвичам.
Разнёсся слух, что немцев уже предупредил Щелканов, благоволивший к ним в пику англичанам. Потому в добротных домах оказалось беднее, чем ожидали погромщики. Не отыскалось даже серебряной посуды, одна лужёная дешёвка. А шарили старательно, выгнав хозяев на мороз. И — с любопытством к чужому обиходу. Печи у немцев были в нижней горнице и кухне, без лежанок, со встроенной плитой, а спальные чуланы не отапливались. На широченных одринах громоздились пуховые перины, коими накрывались вместо одеял. Перины и подушки пушить не стали, так — пощупали. Топорами вскрыли подозрительные половицы, простучали и пробили стены, увешанные вместо икон нравоучительными картинками и изречениями Лютера... Жители выбегали поспешно и послушно, теснились посреди очищенной от снега улицы — чужие в чужой стране, обманутые чужим царём.
Ценное отыскалось в подсобках и мастерских: гвозди и инструменты из шведского железа, лучшего в Европе. Мисок и кружек белой глины, розовато просвечивавших по краям — парцеллин называется, грубая замена «парпора» из дальней страны Катай, — побили больше, чем унесли. В досаде выгнали на ледяное ристалище немецких жёнок, те падали коровами на льду. Мужчин, поднявших голос, избили в кровь. Могли поубивать, а жёнок — понасильничать, но голова, назначенный царём, воспретил срамное. Государь уже притомился от клевет в немецких и польских листках...