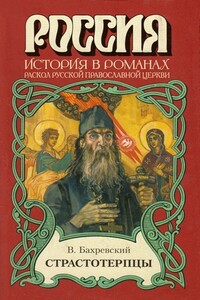Знал, что пригодится. У крепостной стены два назначения: препятствовать противнику и обеспечивать свободу манёвра осаждённым. Для тайных выходов придумано множество ухищрений — подстенные «слухи», ниши, внутристенные переходы. Итальянцы, восстанавливавши стену, переняли у русских конструкцию «лазов» — скрытых выходов, заложенных брусяными щитами, снаружи замазанных глиной или присыпанных землёй. Щит выбивается двумя ударами. Расположение лазов — тайна, известная лишь воеводам и строителям. Строителей когда-то убивали, но в просвещённом шестнадцатом столетии стали брать клятву о неразглашении. «Свой» лаз Неупокой мог отыскать на ощупь.
Топорик был припрятан заранее. Щит отвалился со снежным шорохом, Неупокою он показался камнепадом. Только теперь всё напряглось в последнем, решающем усилии. В лунные ночи стража на стене менее бдительна. Заснеженное болото от подножия лаза высвечено до самого леса, каждая ива и тополёк — как нарисованные на сизом, с прозеленью, насте. Неупокоя не заметили, пока барахтался во рву, по горло в снегу, затем катился вниз по склону. Только когда добрался до тропы, ведущей к Ловати, на башне заорали и, долгожданные, залаяли самопалы. Отчётливо выделился голос Зуба. У реки тропа поворачивала направо, к Дятлинке, до леса же по целику оставалось шагов двести. Они дались тяжко. Стиснутое страхом сердце работало вполсилы, в затылке стучали молотки — последствие контузии, пожизненный недуг. Знал: догонят — убьют на месте, чтобы не маяться с охраной до возвращения Кмиты. Не сразу догадались, как он одолел стену. Пока бегали к речным воротам, Неупокой добрался до опушки.
Тут же под ёлками упал, задыхаясь и высматривая. Двое преследователей дошли по той же тропе до целика, увидели его следы. Задумались. Если у беглеца ручница, на подходе к лесу одного ждёт пуля. Зуб вышлет подмогу, но мёртвому она не нужна. Всё же двинулись по следу, не торопясь. Молотки в затылке поутихли. Неупокой хватанул губами жгучего снега, поднялся и пошёл. Когда со стороны крепости донёсся лай — догадались пустить гончих, — он уже вылез на Торопецкую дорогу.
Она была изрыта копытами, казачьи и татарские дозоры шастали с обеих сторон. Собак пошлют по ней. Неупокой добрался до первой речки и побежал по льду, по свежей весенней наледи. Версты через три свернул в овражек, нарубил лапника. Краюха хлеба за пазухой отмокла, воняла потом. Были ещё сухари и вяленая рыбка. Он запретил себе думать о костре, жарко-трескучем, с котелком тающего снега. Костёр ему приснился. Он догадался, что замерзает, вырвался из сна. В аду пытают не огнём, а холодом...
От казаков он знал, что речка Кунья, выручившая его, впадает в Ловать возле Холма, а третий её приток верховьями подходит к самому Торопцу. Крюк основательный, но выбирать не приходилось. Можно идти по руслу, сберегая силы и сухари. К вечеру и теплинку разведёт, попьёт горячего. Свитка и задубевшая рубаха грели плохо, оставалось поспешать... Татарский дозор возле Торопца взял его на третий день.
Через неделю он был в Печорах.
Внимание братии было не легче преследований Зуба. Едва спасал куколь, надвинутый на обожжённое лицо. Больничный старец уверял, что с обновлением кожи Арсений «обрете юношеский образ», но оба понимали, что шрамы останутся до смерти. Каменные осколки просекли их так глубоко и прихотливо, что самые доброжелательные не умели скрыть брезгливой жалости. Даже игумен Тихон не удержался от попрёка:
— Яз тебя, страдный, увещевал, не знайся с мытарями и татями! Ведь Москва не Третий Рим, а Вавилон, прости Господи. Куда тебе ныне, кроме особножитийной кельи? За трапезой с тобой сидеть и то испытание.
Как назло, к возврату в монастырь отпали самые глубокие струпья, обнажив кожу, похожую на непроваренное мясо. Сотрапезники отводили глаза и носы, ибо целебный мельхан, изготовленный больничным старцем, отдавал тухлым яйцом.
— Чаша горечи, тобою смешанная, тебя не миновала, — заключал Тихон и подслащивал: — Работой благословлю тебя такой, что, кроме мышей, дивиться никто не станет. Ступай в книгохранилище!