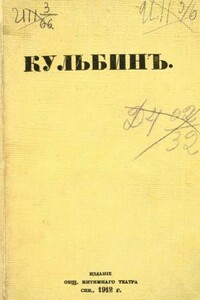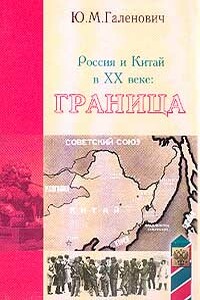Демон театральности - страница 58
Подобного же рода недоуменные вопросы можно отнести и к практике «неизреченного света», видимого главному действующему и невидимого его окружающим, к таинственному голосу или райской музыке, внятной лишь одному из участников драмы. Сюда же можно, наконец, отнести и тот случай, когда характеристика одного из действующих предлагается зрителю под углом зрения другого действующего, когда, например, злодей представлен на сцене таким, каким его видит жертва; для других действующих лиц, даже очень чутких по ходу пьесы, это «милейший Иван Иванович», несмотря на явно преступный вид всей его фигуры, зловеще-хриплый голос и, может быть, если драма разыгрывается в театре Царевококшайска, огненно-красные волосы, потому что «рыжий-красный человек опасный»; одна только несчастная жертва, томимая злым предчувствием, недоверчиво относится к сладким улыбкам этого явного даже для годовалого зрителя злодея. Расчет автора пьесы и автора постановки в таких случаях не вызывает сомнений: надо, чтобы публика от всей души сострадала добродетельной жертве, героине всей драмы, а для этого надо, чтобы злодей был воспринят с ее точки зрения; и вот порок представляется под углом зрения добродетели! А могло бы быть и иначе; например, в модной драме «стиль модерн» с ницшеанской окраской жертва была бы представлена глупенькой мещанкой, все назначение которой — погибнуть под пятою рыжего Übermensch’а>{252}; впрочем нет, оговариваюсь, ясное дело — он был бы тогда не рыжим, а жгучим брюнетом с развевающимися кудрями пророка, с глазами демона и высоким челом гения; — театральные парикмахеры, как известно, не хуже богов отмечают избранные натуры.
Несмотря на грубость всех этих примеров и отчасти их комическую неприглядность, я с удовольствием привожу их, как показатели неуклонного стремления великих мастеров сцены, так же как и их подмастерьев, дать публике возможность в тот или иной важный момент драмы заглядеть и заслушать глазами и ушами одного из действующих. А это уже много говорит за естественность моей теории, могущей показаться эфемерною без исторической подоплеки из данных опыта.
Наибольшее приближение к монодраме в том смысле, как я ее понимаю, обнаруживается в драматических произведениях, представляющих сон или длящуюся галлюцинацию, например, «Ганнеле» Гауптмана, «Синяя птица» Метерлинка, «Черные маски» Л. Андреева и др.
Однако, несмотря на художественную ценность названных пьес, нетрудно заметить, что и в них объективность представления самым нелепым {105} подчас образом путается с зависимою от главного действующего субъективностью представления. И если мне возразят, что ведь в театре нельзя обойтись без условностей, то я отвечу, что и сценическая условность должна быть подчинена строгой художественной логике и целесообразности.
По сообщению бельгийского «Литературного ежемесячника», Метерлинк только что закончил пьесу-поэму>{253}, еще более, по-моему, приближающуюся к типу пьес с монодраматической архитектоникой; на сцене, однако, снова царство грез, царство волшебного сна, где действуют некие «общечеловеки» вне времени и пространства, — словом, призрачная жизнь, а не явная, в изображении которой особенно должна сказаться вся сила чар монодрамы.
Боюсь быть слишком скороспелым в своем решении, но сдается мне, что освежающая идея монодрамы как бы висит теперь в затхлом воздухе одряхлевшего театра и что я являюсь выразителем того, что, может быть, завтра было бы выражено другим или другими; история учит нас, что иногда это случается: например, «идея вечного возвращения» несомненно находилась в свое время in pendente