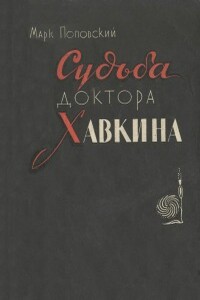Письменно ли, устно ли общается Вавилов с учениками, он всегда думает об этом интеллектуальном, научном уровне, всегда остается педагогом. Будто между прочим, будто случайно разыгрывает он перед научной молодежью целые театральные действа. Так бывало не только в ВИРе, но и в Институте генетики, в президиуме ВАСХНИЛ, в Географическом обществе. Вспоминая талантливое выступление арабиста академика Крачковского в Географическом обществе, Николай Иванович говорил молодым географам: «Вот у кого надо поучиться, как доклады делать. Ведь два академических часа! Без перерыва… А слушали как? Ведь никто не шевельнулся… Он тебе в науку не лезет… Она из него!» Скучная, бессодержательная речь пусть даже «солидного» профессора тоже немедленно вызывает острый комментарий. «Вот тут у себя в институте был я на одном докладе, — рассказывал Николай Иванович молодежи. — Выступал ученый с опытом. С регалиями полный порядок, а вот как начал говорить, так я и не знал, когда же это ученое наваждение закончится. Вот я теперь уже забыл, в каком это рассказе говорится, что посадили одного семинариста в карцер, а он там сидит и думает: «Эх-ма! Не придется мне сегодня у попадьи блинов есть». Точь-в-точь как я на этом докладе. Сижу и думаю: ведь так и поглупеть недолго. Честное слово!» И, повышая и без того громкий голос так, что на свежего человека, сидящего в соседней комнате, это производило впечатление разноса, Николай Иванович чеканил: «А ты должен сделать доклад так…» Он набирал полную грудь воздуха в свои богатырские легкие, после чего следовала пауза и разрядка: «Вот у Ломоносова, небось, на докладах о попадье с блинами не думали. Настоящую науку творили!»
Встречаясь с бойцами старой вавилонской гвардии, я часто слышал о симпатичном, мягком характере Николая Ивановича, о неповторимом его обаянии, доброте. Все это верно. Учитель был добр. Но есть и другие свидетельства. Они гласят, что христианское всепрощение, розовая ангельская благость вовсе не были типичны для главы школы. Человек большого темперамента, он остался страстным и в своих симпатиях, и в антипатиях. То, что молва именует обаянием ученого, было по сути выражением его глубокого интереса к людям, стремлением понять духовный мир каждого, с кем ему приходилось сталкиваться. В тесном общении он загорался сам, и внутренний свет его, свет интереса к собеседнику, составлял для окружающих суть вавиловского обаяния. Но вот человек, бывший до того в сфере его притяжения, оказался недостойным, мелким, фальшивым. Вавилов не произносит громких слов, не извергает проклятий и заклятий. Просто наиболее внимательные наблюдатели замечают, как решительно сразу обрывается внутренняя связь между Николаем Ивановичем и отвергаемым, как гаснет для недостойного свет вавиловского обаяния. И порой — навсегда.
Но резким Вавилов мог быть и с людьми близкими ему. Он откровенно презирал трусов. Не раз получали от него взбучки и те сотрудники (и даже друзья), которые жаловались, что работа их утомляет. Вернувшись из Минска, куда Вавилов послал ее читать лекции, Лидия Петровна Бреславец пожаловалась Николаю Ивановичу на усталость: в Минске ей приходилось вести многочасовые занятия. «И тут я увидела, как изменилось его лицо, — вспоминает профессор Бреславец. — Оно стало не на шутку сердитым. Как можно устать, если делаешь свою работу?!» Подобные эпизоды были очень редки. Зато все помнят, когда учитель в большом и малом оказывался подлинным спасителем своих сподвижников.
Ранней весной 1933 года, вернувшись из американской экспедиции, Николай Иванович узнал об арестах, которые произошли в ВИРе. «Свалилась гора событий изумительных, — сообщает он академику Сапегину. — Выбыло двадцать человек из строя, начиная с Г. А. Левитского, Н. А. Максимова, В. Е. Писарева и т. д., и чем дело кончится, ни для кого не ясно». Речь шла об аресте самых ярких, талантливых ученых — селекционеров, цитологов, физиологов. Вавилов был абсолютно убежден в невиновности своих сотрудников и вовсе не собирался скрывать мнения на сей счет. В различные инстанции полетели его письма с требованием как можно скорее разобраться в деле арестованных сотрудников. Директор института дал попавшим в беду коллегам самые лучшие характеристики. Он потолковал с М. И. Калининым, обратился в Центральный Комитет партии. И можно уверенно говорить: эта мужественная защита сыграла немалую роль в оправдании выдающихся ученых-растениеводов. Профессора Левитский, Максимов, Писарев и другие были выпущены на свободу и вернулись в институт.
![«Мы — там и здесь» [Разговоры с российскими эмигрантами в Америке]](/uploads/books/images/b5/b580faa0aa2fe66b2e4ab892819ebb47d23cc222.jpg)