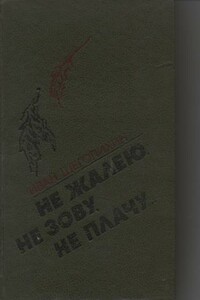В одиннадцать Телятников пошел на токи Бернара и появилась, наконец, Алла Павловна. На шее фонендоскоп, под мышкой коробка с тонометром, обычные атрибуты, но сегодня в руках у нее какая-то еще папка малинового цвета. Что в ней, уже больничный лист? Без лишних слов, деловито Алла Павловна измерила ему давление — лицо внимательное, брови сдвинуты, слушает. Если давление высокое, она его не выпишет, не возьмет на себя ответственность… Нет, милая, поздно, от задержки ему здесь будет только хуже.
— Сегодня вы пойдете домой, но в понедельник — ко мне в поликлинику с больничным листом. От шестнадцати часов до девятнадцати. Вы остаетесь в полном моем распоряжении, прошу учесть. — «Если бы так…» Она свернула манжету, закрыла коробку, сложила руки на коленях. — Сколько сигарет в день?
Деловая она сегодня, официальная, без улыбки.
— Держусь на пяти, стараюсь.
— Насколько мне известно, курильщики, чем лучше себя чувствуют, тем больше начинают курить. — Посмотрела на свои руки, помолчала. — Но вам к этому не нужно стремиться. — И неожиданно попросила: — Измерьте мне давление, Сергей Иванович.
Положила малиновую папку на тумбочку, подсела ближе и протянула руку. Он вставил в уши рога фонендоскопа, накачал грушу и приложил тяжеленький кругляш фонендоскопа к ее округлому локтевому сгибу с косой синей венкой. Тук-тук-тук — нарастая, громче и громче застучало у него в ушах непонятно чье сердце, его или ее, или оба вместе? Снова накачал, послушал.
— Сто пять на семьдесят всего-навсего.
— Видите как, волнуюсь, а давление пониженное, — сказала она. — Берите пример. А вы прошлое любите вспоминать? Знаю, не любите. Меня во всяком случае вы совсем не помните. — То была шибко деловой, а то вдруг задергалась с одного на другое. — Не ломайте голову, — опять повторила она, — я вам, так уж и быть, помогу. — Взяла малиновую папку, раскрыла ее и подала ему фотоснимок. — Узнаете?
Еще бы, не хватало, чтобы он уже самого себя не узнал. Хотя прошло лет двадцать. Двадцать три, если быть точным. Потемневший архивного вида снимок, он в телогрейке и в кепке. На целине в Кокчетавской области. Теперь все яснее ясного — это было перед шестым курсом, они работали в совхозе «Донской» вместе с первокурсниками, среди которых была Алька, не Алла Павловна и не Родионова, просто худенькая девчушка Алька, задорная, с немалым гонором и языкастая, совсем не такая, как сейчас, совсем не такая. Он ее неспроста забыл, а по какой-то веской причине. Тогда он был командиром своего отряда, а она своего, между ними была командирская солидарность и вообще контакт. Вместе ездили на совещание в Кокчетав, тряслись на газике по колдобинам, дорога была ужасной, кидало их и подкидывало, будто колеса не круглые, а треугольные, они хватались за руки, за плечи, валились друг на друга, а впереди, рядом с мальчишкой-шофером незыблемо сидел директор совхоза, держась обеими руками за поручень, сизая бритая голова и уши в стороны, он ни слова не говорил мальчишке и даже как будто поощрял скачки и прыжки, Алька потом призналась: «Мне так хотелось схватить его за уши и держаться обеими руками». На Малышева она смотрела уже как на врача, и разница в пять лет обязывала его соблюдать дистанцию — вчерашняя школьница и завтрашний врач. Она ему нравилась, но он постоянно скован был тем, что старший, невероятно, как ему казалось, взрослый в сравнении с ней. А она задевала его, играла с ним — расскажите про то, про это, а кем вы будете? Серьезных его ответов не слушала, смотрела на него насмешливо. Потом вернулись с целины и больше не встретились — курсы разные, медики кочуют по всему городу, одна кафедра там, другая здесь, а инфекционных болезней вообще за городом. Несправедливо, что они так быстро расстались, думалось ему, он старший, должен ее проведать, узнать, как ее успехи. Месяца через два он поехал к ней в общежитие, узнал, в какой комнате она живет, дело было под вечер, общежитие гудело, какой-то бал готовился с танцами, возле ее комнаты он увидел трех парней, тоже первокурсников, они были навеселе, а дверь заперта, девушки им не открывали. При появлении Малышева ребята завопили: «Нас уже четверо, баш на баш, открывайте!» Девушки не сдавались, из-за двери слышался голос Альки, она гнала всех четверых, «пусть вас будет хоть четырежды четверо, у нас санитарный день» и что-то еще в том же духе. Малышев, надо сказать, высоко ставил себя, шестикурсника, перед салагами, якшаться с ними на равных было ему не к лицу, через год, с дипломом, он уже мог стать теоретически преподавателем у этих юнцов. Постоял в сторонке, поколебался — подавать голос или не подавать? Алька ему откроет, узнает по голосу, но с ним вломятся и эти салаги, сыграет Малышев роль троянского коня. Ушел, не стал срамиться, самолюбие не позволило повидаться. Получилось, что она и ему дала от ворот поворот. Если бы что-то было в ее сердце, оно бы почуяло. Значит, ничего не было, так он решил, и вообще, лучше бы ему не приходить… Потом все-таки еще надеялся встретить ее где-нибудь, когда-нибудь в институте, но так и не встретил. И год прошел, и десять, и еще десять. Она укрылась от него, спряталась — за временем, за возрастом, за отчеством и за фамилией мужа…