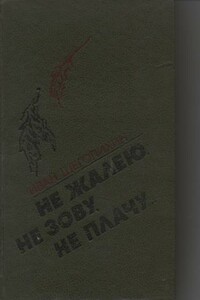— Не было случая, так он будет, Мариночка. «Кто не был, тот будет, а кто был, тот не забудет». Фольклор такой. Все в духе времени — сын готовит проект, отец его реализует, тебе не кажется? Ретро, мода такая.
— Борис, умоляю тебя. — Она достала из сумки конверт. — Здесь тысяча, передала сама Сиротинина, отказаться я не смогла, да и не видела необходимости. Операция трудная, ты сам знаешь, она тоже знает и ценит, как видишь. Больше я тебя ни о чем подобном просить не буду. Борис! Честно тебе признаюсь: она обещала устроить Катерину.
Он подумал, покряхтел, посмотрел на нее со стоном.
— Э-эх, Мариночка, только ради тебя! Слушай анекдот про твоего Малышева. Сидят двое, француз и русский, приговорили их к смертной казни. Как видишь, у меня нынче сюжеты одни и те же. Волокут первым француза и спрашивают: какую казнь выбираешь, гильотину или виселицу? Он говорит, гильотину, патриот попался. Сунули ему голову под гильотину, нажали кнопку — не сработала, второй раз нажали — не сработала, третий — то же самое. Все, помилован. Ведут его в камеру, он доволен, шепчет на ухо русскому: «Учти, гильотина у них не работает». Волокут русского на казнь, спрашивают, какой вид выбираешь, гильотину или виселицу. Он говорит, виселицу. А почему? — задают вопрос. И он отвечает: так ведь гильотина у вас не работает. Таков твой Малышев.
Она рассмеялась безудержно, смех душил ее, она увидела отчетливо, как в кино, своего мужа в полосатой, как арестантская одежда, пижаме, его сумрачное лицо, она услышала, каким голосом он отвечает судьям, с каким упреком за разгильдяйство произносит он эту фразу: «Так она же у вас не работает», — и все до того правдиво, до того явственно, что она скорчилась, стиснула обеими руками горло, не в силах унять идиотский смех, слезы так и брызнули из глаз, она зарыдала, забилась в истерике.
Зиновьев свернул к бровке, остановил машину, достал из ящичка какой-то пахучий флакончик, дал понюхать, Марина кое-как успокоилась, закрыла глаза, закрыла лицо платком, с горечью покивала головой — да-да, это он, ее муж, с его пресловутой честностью, ему стыдно будет, позорно словчить даже на эшафоте. Он будет даже перед палачами совестлив — они тоже люди, и у них есть память. А она, жена его, его половина, будет унижаться, изворачиваться и лгать ровно столько, на сколько он честен и порядочен… Она убрала платок, увидела у себя конверт на коленях, протянула его Борису. Он покосился, спросил:
— Триста тридцать три себе отложила?
— Нет, тут особый случай.
— Ну и кадры Минздрав готовит, я за тебя буду отсчитывать?
Она достала из конверта три сотенные бумажки, пальцы дрожали — от слез, а не от денег, протянула ему конверт, а он долго не брал, заводил машину, руки заняты, завел, тронулись, он переключал, двигал пауком в набалдашнике, а она сидела с протянутой рукой и дрожала — а вдруг не возьмет? Раньше с ним было проще, он сам спрашивал, как насчет тити-мити, ни слова о кодексе, о статьях, а сейчас она совала ему конверт, как будто на самом деле назойливо совращала его суммой, втягивала в преступление. Наконец он рывком взял конверт, сунул его под сиденье, видимо, в тайничок от Анюты, спросил:
— А вторая кто?
— Жемчужная. У нее еще больше, двадцать две педели. Пыталась покончить с собой.
— Ты совсем чокнулась, дорогая, тут же политика!
— Она себе кухонным ножом живот распорет, и все равно к тебе привезут, а мне нагоняй будет, что не дала направление. Зачем ей рожать, от кого рожать?
— Но зачем ее таким же каналом?
— Она меня умоляла, передала сто рублей, я отказывалась, а она в слезы, боюсь, говорит, что никто не возьмется, положат на сохранение, — ну ты должен ее понять.
— Почему они вовремя не обращаются, все эти сучки, хотел бы я знать? У меня впечатление, что у них после случки сразу двадцать недель, скоростной метод.
— У тебя такое отделение, Борис, чему удивляться? — стала она его успокаивать, сама уже успокоенная. Если он взял, значит, сделает все, что требуется, и сделает как всегда чисто.
— Сегодня красный свет нам в два раза чаще, — он притормозил перед светофором. — Только ради тебя, Мариночка, а потом бежать надо. Скорее бы Санька открывал свою колонию, пойду добровольно, хоть санитаром, тут жизни нет. Откажемся мы или согласимся, ничего не изменится, все равно все знают, что в такие сроки делаем только мы с тобой. Откуда Сиротинина узнала? Я ей не говорил и ты, надеюсь, тоже. Глас народа, глас божий, аж из Семипалатинска везут, и там про Зиновьева знают.